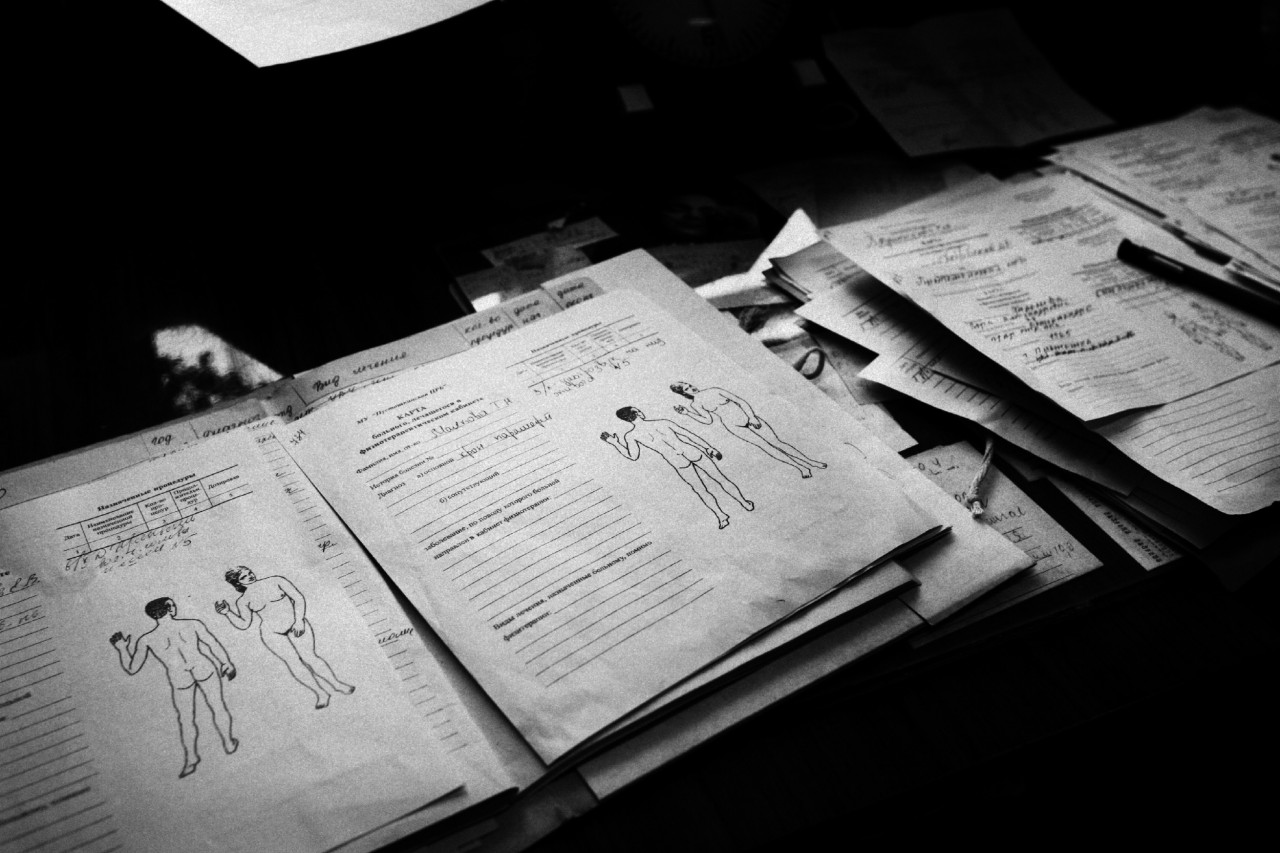По данным Минздрава, ежегодно из-за врачебных ошибок возникают осложнения более чем у 70 000 пациентов. Эксперты отмечают, что количество конфликтных ситуаций между пациентами и медиками по поводу морального вреда вследствие некачественного лечения в последние годы только растёт.
В связи с этим Верховный суд РФ разъяснил, почему в случае судебного разбирательства именно медучреждения обязаны доказывать правильность действий своих сотрудников и отсутствие их вины за наступление неблагоприятных последствий. А ещё высокая судебная инстанция указала, какие именно обстоятельства должен доказывать недовольный своим лечением пациент. Такое упорядочение должно помочь гражданам отстаивать свои права. Теперь достаточно принять во внимание несколько аспектов, чтобы жалоба или иск были удовлетворены.
Компенсация не только пациенту, но и родственникам
— Важнейшее разъяснение Верховного суда РФ — это обозначение некоего перечня внешних выражений того, что человеку действительно был причинён моральный вред. Ведь сегодня главная проблема подобного рода разбирательств в том, что ответчик не отрицает само событие, но по-своему трактует его последствия, — пояснил заведующий «Западной коллегией адвокатов» города Москвы Александр Инютин. — Раньше для доказательства моральных страданий даже суды требовали некие справки с конкретными выводами. Теперь для обоснования морального вреда такие бумаги не нужны, россиянину достаточно предоставить информацию о факте своих страданий, а всё остальное должны объяснять медики.
По мнению Верховного суда РФ, моральный вред может быть причинён не только самому пациенту, но и его родственникам. То есть, если кто-либо испытывает переживания по поводу неверного диагноза (своего или родственника) или в связи с наблюдением за страданиями родственника, а также считает, что близкого человека можно было спасти при оказании ему надлежащей медицинской помощи, он вправе требовать компенсацию. Кроме того, моральный вред может быть выражен в заболевании, перенесённом в результате нравственных страданий в связи с утратой родственника из-за некачественного оказания медпомощи.
Кто и что должен доказывать
Верховный суд РФ указывает, что в случае спора пациента либо его родственников с медицинской организацией бремя доказывания распределяется так. Гражданин доказывает только факт страданий, для этого подходят не только документы, но и, например, свидетельские показания. А медучреждение должно доказать правильность своих действий, отсутствие вины в причинении вреда здоровью и морального вреда при оказании медицинской помощи.
Таким образом, в случае возникновения конфликта поликлиника или больница должны будут доказать, что:
во-первых, при оказании медицинской помощи медиками были приняты все необходимые и возможные меры для своевременного и квалифицированного обследования в целях установления правильного диагноза;
во-вторых, организация диагностики и лечебного процесса медсотрудниками полностью соответствовала принятым в РФ стандартам медпомощи и не нарушала отдельные регламенты;
в-третьих, при наличии дефектов оказания медпомощи установленные ситуации не привели к нарушениям прав граждан в сфере охраны здоровья.
Кроме того, медицинской организации придётся обосновывать правильность всех медицинских вмешательств, сроков и порядков назначения обследований, правильность диагноза, назначения лекарственных препаратов и т.д.
Естественно, у гражданина, претендующего на компенсацию морального вреда, могут возникнуть вопросы по поводу компетенции медперсонала. Поэтому медучреждение должно будет доказать, что квалификация врачей соответствовала их функционалу, а организация лечебного процесса позволяла оказать пациенту необходимую и своевременную помощь, исключая при этом неблагоприятный исход.
На что может рассчитывать пострадавший
По закону если клиника или частнопрактикующий медработник причинили вред, то они обязаны его возместить в полном объёме. Однако по факту возместить потерянное здоровье сложно, а это значит, что речь идёт о материальной компенсации. В зависимости от тяжести последствий врачебной ошибки возможна гражданская или уголовная ответственность. Только при гражданском процессе ответчиком выступает лечебное учреждение, при уголовном — конкретное физическое лицо, виновное в причинении вреда.
И в том и в другом случае пострадавший имеет право на компенсацию утраченного заработка, а также всех понесённых расходов, связанных с лечением, включая покупку лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.д. И дополнительно к этому сам пострадавший и его родственники имеют право на компенсацию морального вреда.
Эксперты отмечают, что на практике размеры компенсации морального вреда начали постепенно расти, но многое зависит от правильности заявления позиции по отношению к событию и наличия подтверждения ошибки врачей.
— Любые страдания, которые претерпел человек в связи с неправомерными действиями, подлежат компенсации, — пояснила юрист-правозащитник Надежда Анфимова. — Если тяжёлое состояние родственника или переносимая им боль оказывают психологическое давление на здорового человека, это тоже повод обратиться за компенсацией морального вреда. Но потребуется доказать его наличие в связи с некачественным оказанием медуслуги. Есть надежда, что разъяснения Верховного суда РФ сделают этот процесс проще.
Верховный суд обязал медиков выплачивать компенсации жертвам врачебных ошибок и их родственникам. Уменьшит ли это количество болезней и смертей по вине медиков? И где теперь надо отстаивать права пациентов?
…Когда в суде слушается дело о врачебных ошибках, сторона защиты часто приводит «железный» аргумент: «Все мы рано или поздно умрем». Да, умрём. Но важно, когда и как.
У нас в стране нет традиции наказывать врачей за ошибки. Считается, что раз врач всего лишь ошибся, его нельзя обвинять, ведь ошибаются все. Отсутствие злого умысла отличает врача-непрофессионала от преступника. Но последствия ошибки от этого не менее трагичны.
Каждый третий в России – жертва врачебных ошибок?
Официальная статистика врачебных ошибок в России не ведется. Дело в том, что не все случаи заканчиваются летальным исходом для пациента. Зачастую врач успевает исправить свой промах, и больной в конце концов выздоравливает. В российском законодательстве вообще нет понятия «ошибка врача», поэтому доказать, что медик виноват в неправильных действиях, которые причинили вред пациенту, очень трудно. Однако, есть статистика. По подсчетам некоторых специалистов, процент медицинских ошибок в РФ очень высок.
Практически каждому третьему пациенту ставится неверный диагноз. Из-за этого умирает 12% больных пневмонией. Россия также рекордсмен по количеству инсультов. По вине медиков у нас много детей инвалидов – каждый четвертый. По неофициальным данным, в 2015–2016 годах не правильно поставленный диагноз и неправильное лечение стали причиной гибели около 3 тыс. пациентов. Из них почти половина – дети.
В мире давно ведется статистика врачебных ошибок в разных областях медицины. По этой статистике, самый большой процент – 25% приходится на ошибки в хирургии. По 15% — на ошибки в родовспоможении, гинекологии, стоматологии. Но если учесть, сколь велика разница между уровнем здравоохранения в развитых странах и в России, то можно предположить насколько больше случаев ошибок врачей может быть на самом деле. Эта цифра может достигать 200–300 тыс. погибших россиян за год.
Презумпция врачебной невиновности — основа российской медицины?
Уголовный кодекс РФ не определяет четкие меры наказания медперсонала за некачественную ошибку. Понятие «врачебной ошибки» в УК РФ вообще отсутствует. На практике ошибкой считается бездействие или неверное действие медиков, которое нанесло ущерб здоровью.
Но закон до сих пор не определился: врачебная ошибка и халатность — это разные вещи или одно и то же? Или же врачебная ошибка – это несчастный случай, который совершен по незнанию или неосторожности? Вместе с тем, в УК РФ есть понятия, которые могут быть применены к действиям врачей. Огрехи медиков можно отнести к следующим понятиям УК:
причинение вреда здоровью по неосторожности;
неоказание больному необходимой помощи;
причинение смерти по неосторожности.
Но добиться какой-либо компенсации и наказания виновных практически невозможно. Наказание за врачебную ошибку, как правило, ничтожно.
У меня на памяти трагедия Екатерины Суминой, вице-мисс России, которая стала героиней одного из моих фильмов. Во время липосакции в «Лазерном центре» Самары по вине врачей она впала в кому. Вывести Катю из этого состояния не удалось… Врачи косметологической клиники приняли все меры для того, чтобы как можно скорее забыть о Суминой. Медики переписали ее медицинскую карту: там, где говорится об отключении пациентки от аппарата ИВЛ, позднее было вписано, что больной постоянно подавали увлажненный кислород. «Закон оказался на стороне преступников, — говорит муж Екатерины Сергей Окунев. — Врачи, которые убили Катю, отделались легким испугом. Они принесли справки о нищенских зарплатах. Клинику «Лазерный центр», которая должна была отвечать, ликвидировали. И когда суд вынес решение о компенсации в размере 5 миллионов рублей, взыскать эти деньги оказалось не с кого».
У пользователей соцсетей каждый день перед глазами и трагедия Татьяны Уюсовой — Бенграф, дочь которой, Оливию, во время родов в 27-м роддоме Москвы травмировали, а потом предложили от нее отказаться, потому что ребенок родился с детским церебральным параличом. Во время родов медики под руководством врача Марины Сармосян применяли крайне агрессивные методы, что нанесло непоправимый вред здоровью ребенка: сначала врачи допустили передозировку эпидуральной анестезии, а после прибегли к выдавливанию плода, опасному как для роженицы, так и для ребёнка. В итоге девочка пережила клиническую смерть. Все это происходило в рамках родов по контракту, который обошелся семье в 160 тысяч рублей…Татьяна не отказалась от дочери, и уже несколько лет сама выхаживает девочку-инвалида с тяжелейшим ДЦП. Врачи не помогли семье ни рублем.
«Суды по факту врачебных ошибок в последнее время не приносят большие компенсации, по моему опыту, — рассказывает руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. – За смерть человека по недосмотру или ошибке врачей суд присуждает сейчас, как правило, 4-5 тысячи рублей компенсации. Были успешные процессы, например, в 2005 году нам удалось выиграть процесс у медучреждения, по вине которого погибли роженицы с детьми. Тогда пострадавшим от действий врачей присудили 700-800 тысяч рублей компенсации. Интересы ответчика защищал академик, но несмотря на это, мы выиграли процесс. Был также случай, когда за смерть человека присудили 14 миллионов компенсации, но это скорее исключение».
Бывает и ровно наоборот. Как известно, дело гематолога Елены Мисюриной, которая 22 января 2018 года Черемушкинским судом Москвы была приговорена к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это произошло после смерти ее пациента, которому врач проводила биопсию костного мозга. Однако, со временем уголовное преследование в отношении г-жи Мисюриной было прекращено, и ей даже была выплачена компенсация в размере 4 282 221 рублей 90 копеек.
Запретная тема
Сейчас о врачебных ошибках практически не пишут и не говорят. Когда я поинтересовалась причинами этого среди медицинских юристов, мне поведали неожиданную вещь: оказывается, с недавних пор следователи дают расписку о неразглашении дел по врачебным ошибкам. Соответственно, это гасит информационные поводы, и о многих делах в отношении врачей мы попросту не знаем.
Дела в отношении врачей в случае их ошибок не доходят до судов и по другим причинам. «В конце нулевых было создано региональное отделение Лиги защиты прав пациентов в Сочи, и там были поначалу резонансные дела, но в какой-то момент суды вернулись к практике присуждения по 4-5 тысяч рублей компенсации за врачебные ошибки по вине медперсонала. Когда начали разбираться, выяснилось: местный руководитель департамента здравоохранения провел закрытое совещание с местным судом, на котором было принято решение «местный департамент здравоохранения не разорять». Такие местечковые договоренности часто «гасят» резонансные дела», — рассказал «НИ» руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский.
Кандидат медицинских наук, педиатр-генетик Марина Зубкова рассказала, что сейчас доходят до судов единичные случаи, связанные с врачебными ошибками : «Был недавно случай, когда при врачебной ошибке истцы дошли до президиума Мосгорсуда. Но вообще, по статистике, до президиума суда доходит всего 2% кассационных жалоб. Число кассаций по врачебным ошибкам, удовлетворенных судом, ничтожно мало».
В своем постановлении Верховный суд определили возлагать обязанность по доказательству оснований для освобождения врачей от ответственности за ненадлежащее оказание медпомощи на «медицинскую организацию». В этой связи в медицинской среде заговорили о необходимости страховать врачей. Таким образом, в судах у них появится еще один защитник – страховщик. Но едва ли это поможет избежать компенсации за причиненный здоровью вред. «Пациенты пойдут к следователям, а потом в рамках уголовного дела предъявят гражданский иск», — считает Александр Саверский.
В то же время в медицинской среде это постановление Верховного суда встретили неоднозначно. «Это постановление дает возможность требовать компенсацию за морпльный вред без доказательства факта врачебной ошибки. Но моральный вред нельзя увидеть и осязать. В этом смысле медицинские организации окажутся в сложном положении. Тем более, что в их бюджете не заложены такие суммы, которые часто требуют пострадавшие. Вообще, на мой взгляд, это постановление было принято из-за роста недовольства медицинской помощью в России. Людям как бы сказали: качество медпомощи мы улучшить не можем, но вы можете отсудить деньги», — заявил «НИ» адвокат Асад Юсуфов.
Избавит ли решение Верховного суда всех нас от врачебных ошибок? «Думаю, что ошибок меньше не будет. К тому же в большинстве случаев врачи допускают их не специально. Тут должна быть индивидуальная ответственность. А пока платит за ошибки юридическое лицо, большинство медиков будет думать: «Я лично ни за что не отвечаю». Пока не будет персональной ответственности – ничего не изменится», — считает кандидат медицинских наук, педиатр-генетик Марина Зубкова.
По статистике, только в странах Европы ежегодно в суды подается около 10 тыс. жалоб на медицинских работников. Половина из них удовлетворяется судом, так как проведенная экспертиза доказывает факт ошибки. У нас же экспертиза в большинстве случаев не доказывает ничего, так как подчиняется тому же департаменту здравоохранения, что и медучреждение, в отношении которого подан иск. Интересно,что в Москве, в случаях вопиющих врачебных ошибок справедливости истцам удавалось добиться только при проведении судмедэкспертизы в Петербурге.
Существенная разница еще в том, что за границей между пациентом и врачом заключается договор, где детально прописаны все социально-экономические, а также этические и правовые стороны их взаимодействия. У нас в стране этого нет. Все знают, что перед операцией вам в лучшем случае за несколько минут до нее подсунут листок для подписи, в который вы не будете особо вникать. Потому что в это время скорее всего будете заняты мыслью, как дать взятку анестезиологу…
#Новости#Врачи и пациенты#Верховный суд РФ#Суд#Врачи#Общество
Врачебные ошибки могут стать уголовным преступлением – дополнить Уголовный кодекс соответствующей статьёй предлагает Следственный комитет РФ. Кроме того, в СК предлагают ввести запрет на профессию для врачей, уличённых в халатности. Однако, как считают эксперты, введение подобных норм не только не исправит, но скорее только усугубит ситуацию.
В Следственном комитете считают, что одним из главных несовершенств нынешнего законодательства является тот факт, что в Уголовном кодексе вообще отсутствует такой термин, как «врачебная ошибка». Из-за этого врачей привлекают к ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершённому деянию и наступившим последствиям», – поясняет официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Действительно, сегодня добиться привлечения к ответственности врача, по вине которого пациент потерял здоровье или жизнь, крайне сложно. Как следствие – печальная статистика. Как рассказали «Нашей Версии» в Лиге защитников пациентов, за год в России инициируется порядка 800–850 судебных разбирательств, связанных с работой медиков в системе ОМС. Из них в пользу пациента выносится только 240 решений.
Легко отделываются
«Я не могу согласиться с СК, – говорит руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский. – Люди не хотят, чтобы врачи сидели в тюрьме. По большей части те, кто обращается к нам, говорят: мы не хотим лишь, чтобы врач и дальше работал и вредил другим. И для этого не нужна уголовная ответственность. Достаточно административной – по типу того, как водителей лишают прав».
Кроме того, подчёркивают эксперты, гораздо эффективнее будет не отправлять врачей за решётку, а бить их рублём. В Кузьминском суде Москвы недавно рассматривалось дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. На соревнованиях мальчик получил травму руки. Родители обратились в ближайшую поликлинику в Красногорске, где руку зафиксировали и посоветовали обратиться в московскую больницу, сославшись на то, что сами не могут заниматься столь тяжёлыми травмами. «К сожалению, никто не подумал, что мальчику нельзя двигаться. Папа своими силами довёз его до больницы, где не проконтролировали повязку, которая была наложена. В результате пострадал магистральный канал, и мальчик потерял способность работать этой рукой. Теперь у него инвалидность», – рассказывает медицинский адвокат Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.
По её словам, когда родители обращались за юридической помощью, они хотели не наказать допустившего ошибку врача, а найти средства на дальнейшее лечение сына. И хотя дело было решено в пользу пациента, радоваться оказалось рано. «Суд признал вину врачей, было вынесено решение о компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей, – говорит Ирина Гриценко. – По сути, такое решение – это плевок в сторону родителей».
Самый большой известный размер компенсации морального вреда за дефект в медпомощи в российской судебной практике – 3,5 млн рублей, присуждённых в 2008 году за заражение ВИЧ. Для сравнения: в тех же США размеры компенсаций могут доходить до 9 млн долларов. Но там ситуация доведена до абсурда с другого края: суды с медиками давно уже превратились в отдельную отрасль экономики. «В США это уже стало особой сферой деятельности, не имеющей отношения к медицине. Количество судов огромно. Всё это удорожает систему здравоохранения и сеет недоверие между врачом и пациентом. Там всё это просто большой бизнес», – говорит Александр Саверский.
По теме

1936
В Курске бывшего учителя будут судить за дискредитацию ВС РФ на уроке обществознания. Высказывания учителя записал на диктофон один из школьников и дал послушать отцу.
Эксперты все свои
Страховать себя от преследований со стороны пациентов даже в случае явных ошибок медикам сегодня помогает сама система. Дело в том, что при возникновении судебных разбирательств экспертизы по делу проводятся в экспертных бюро, которые находятся в подчинении Минздрава. При этом местные подразделения Минздрава несут ответственность за работу медучреждений, находящихся под их руководством. То есть фактически экспертные бюро оказываются заинтересованной стороной процесса. «Если больница по суду получила взыскание, допустим, на 1 млн рублей, то просить эти деньги она придёт в Минздрав. А Минздрав, в свою очередь, обязательно свяжется с экспертами и скажет: вы чего это там меня на миллион подставили?! Своё же учреждение!» – рассуждает Александр Саверский.
В последнее время в судах пытаются на месте решить эту коллизию, заказывая экспертизы в бюро, расположенных в соседних субъектах РФ. Но дело это достаточно долгое и хлопотное. К тому же и в соседних регионах работают такие же «свои» – все ведь учились в одних мединститутах, да и завтра может статься, что обращаться придётся обратно к экспертам-соседям. Так что здесь многое зависит от настроения судьи.
Потому далеко не всегда этот путь оказывается действенным. В деле пациентки Веры Парфёновой против ЗАО «Косметологическая лечебница» пациент пытается взыскать со стоматологической клиники в Башкортостане более 1 млн рублей за некачественно установленные импланты. Ошибки хирурга-имплантолога привели к тому, что после установки имплантов пациентку начали мучить такие страшные боли, что новые зубы пришлось удалить.
В суде первой инстанции как раз фигурировало независимое экспертное заключение. Решение было вынесено в пользу истца. Однако последующие судебные инстанции в удовлетворении иска отказали: в деле появилась новая экспертиза, вероятно, проведённая, как считают адвокаты из Лиги защиты прав пациентов, заинтересованными структурами. Точка в деле пока не поставлена.
Уголовники с аттестацией
Отстоять свои права в судах против врачей гражданам не удаётся даже в самых тяжёлых случаях. В 2007 году в Краснодарском крае от анафилактического шока в одной из районных больниц умерла 27-летняя девушка. Поначалу девушка подумала, что заболела обыкновенным ОРВИ и вызвала участкового врача, который после осмотра назначил антибиотики. А спустя три дня девушка с жуткими болями во всём теле и одышкой оказалась в больнице, где и умерла через несколько часов после поступления, не приходя в сознание.
Родителям девушки так и не удалось добиться правды. В медицинской документации обнаружили ряд несоответствий – в частности, о времени поступления девушки в больницу. Однако доказать вину врачей или, напротив, развеять сомнения родных в итоге не получилось.
По мнению экспертов, выходом из ситуации могло бы стать введение административной ответственности и штрафов для врачей. А также использование вообще-то уже имеющегося механизма аттестации медиков. Аттестация является своеобразным допуском медиков к работе, проходить её врачи обязаны раз в пять лет. «Лишить аттестации можно, но это не практикуется. Вообще странно как-то: сам допуск есть, но отобрать его вроде как ты не можешь. Аттестацию не отзывают, даже когда возникает какой-то серьёзный случай, подтверждённый приговором уголовного суда», – недоумевает Александр Саверский.
КОНКРЕТНО
В теории работу врачей должны были бы контролировать страховые компании. Однако на деле этот контроль оказывается чисто формальным. «В лечебное учреждение приходит проверка эксперта из страховой, он спрашивает, ну что, 10% «дефектов» вас устроит? Тогда мы не будем ничего обжаловать», – поясняет Александр Саверский.
Кстати, цифра в 10% медпомощи, оказанной с дефектами, уже много лет фигурирует в официальных отчётах. Но даже эта липовая величина в абсолютных цифрах выглядит чудовищно. Судите сами: в год в России проходит примерно 40 млн госпитализаций. Получается, что в 4 млн случаев люди получают некачественную помощь. И это только в госпитальном звене! По данным Лиги защитников пациентов, в 15–20% случаев имеет место расхождение прижизненного и посмертного диагноза. То есть люди умирают от заболеваний, которые у них не были диагностированы при жизни.
Изменить ситуацию могло бы страхование ответственности врачей. При этом, чтобы моментом наступления выплаты по страховому случаю являлось не решение суда, как сейчас, а сам факт признания врачом совершённой ошибки. «Только на следующий год для этого врача страховка, которая была бы обязательной, стоила бы не 10 тыс. условно, а 200 тысяч. Чтобы он понимал, что рискует потерей своей профессии, потому что страхование должно стать обязательным условием осуществления медицинской деятельности», – считает Ирина Гриценко.
-
16. 07. 2015 -
Дефекты образования, ампулы одного цвета, нехватка воли: врачи рассказали Дарье Саркисян о своих фатальных ошибках и объяснили, как их количество можно снизить
К. А., педиатр
«Мои первые и, пожалуй, самые яркие ошибки были еще в университете. После третьего курса я устроилась работать медсестрой. Меня взяли, даже не проверив мои навыки. Мне нужно было поставить капельницу одному пожилому раковому больному — казалось, дотронешься до него, и он рассыплется. Я ни разу не колола в вену: ни на тренажере, ни на крепком человеке. А мне просто сказали: «Иди и делай. Все мы так начинали, и ты на практике научишься», — никого со мной не послали. После моих попыток у пациента были огромные гематомы на обеих руках, и возможности поставить капельницу просто не осталось. Меня отругали, сказали: «Что же ты такая безрукая. Уйди». И я даже не видела, что они потом делали. С тех пор я ни разу не колола в вену. Я врач с восьмилетним стажем, и это стыдно.
Конечно, это в первую очередь проблема системы образования. Я считала: меня учат всему, что мне понадобится, и я училась хорошо. Но, как выяснилось, если у тебя нет возможности ходить по различным кружкам в университете, ты оказываешься абсолютно неподготовленным. Старшие коллеги не поддержали меня и не помогали мне, когда я первый раз выполняла манипуляцию. Выходит, то, что случилось, это не вина кого-то одного, это комплексная ответственность. Тем не менее, трудно не винить себя: ты своими руками навредил кому-то. В итоге, я сознательно стала работать в той области, где минимум практических вещей.
Когда я начала работать педиатром, мои ошибки стали связаны с недостатком знаний. Например, на приеме у меня был с лихорадкой неясного происхождения ребенок, не привитый от пневмококковой инфекции. По международным стандартам он должен получить дозу антибиотика цефтриаксона, поскольку есть вероятность заражения крови бактериями. Я не назначила его, потому что не знала, строгая ли это рекомендация. Когда ребенок с родителями уехал, я решила уточнить и увидела, что давать цефтриаксон нужно обязательно. Я им позвонила и все объяснила.
Фото: Татьяна Плотникова
Я всегда признаю свои ошибки и ни разу не пожалела об этом. Мне кажется, нормально, если врач чего-то не знает: объем информации огромный, и она постоянно обновляется. Но при этом, конечно, доктор должен по максимуму защитить себя от ошибок: сверяться с рекомендациями, руководствами и т. д. Беда только в том, что в России такая практика — это не обязанность, а инициатива врача. У нас доктор не обязан быть в курсе новых достижений медицины. То есть даже если врач год не мог диагностировать рак, потому что не назначил какой-то элементарный анализ, нет возможности доказать, что доктор не прав: нет точки опоры, стандартов. Я была однажды на разборе летального случая в городском департаменте здравоохранения после жалобы родственников погибшего пациента. Уровень дискуссии там был потрясающий. Глава комиссии, очевидно, проработала врачом очень недолго. И она объясняла доктору, на которого подали жалобу, что он должен был сделать. Надо ли говорить, что эти рекомендации были скорее вредными, чем полезными.
Если все врачи начнут честно рассказывать пациентам о своих ошибках, думаю, больные устроят революцию. И может, это будет не так плохо. Вот, например, я не представляю себе нормальную практику в сегодняшних условиях работы в поликлинике. Если участковый терапевт не заметит серьезные изменения в результатах анализов, то как ему можно предъявлять претензии? У него нет времени, чтобы полноценно разобраться в каждом случае. Он может, наверное, говорить в начале каждого приема: «У нас есть 12 минут, из которых 5 я буду заполнять документы, поэтому не рассчитывайте на многое. Я постараюсь сделать все возможное, но условия у нас не нормальные, и я буду ошибаться». Но кто решится так говорить?»
М. Г., невролог
«Много лет назад моей пациенткой была очень милая старушка лет 80. У этой женщины случались эпизоды дезориентации, которые напоминали мне преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки). Я лечил ее в соответствии с тогдашними своими представлениями о том, что нужно делать в таких случаях: давал препараты метаболического действия, пытался лечить ее небольшую гипертонию и давал аспирин, — но эпизоды повторялись. Кроме того, у этой старушки была мерцательная аритмия, о которой я знал. Это состояние сопровождается очень высоким риском инсульта, который при правильном лечении можно предотвратить: назначив препараты, уменьшающие свертываемость крови. Я не сделал этого. Думаю, из-за пробела в образовании. Дело закончилось печально: у старушки случился инсульт, и она умерла. У нее был муж со старческим слабоумием, который, понятно, держался только благодаря тому, что она за ним ухаживала. Что с ним стало дальше, я не знаю. Я их часто вспоминаю.
я себя винил, но не до такой степени, чтобы уйти в запой или чтобы делать далеко идущие выводыТвитнуть эту цитату Еще был случай, когда я учился в ординатуре: в «мою» палату поступила женщина с болями. В скорой подумали, что у нее остеохондроз и привезли в неврологическое отделение. Я понял, что дело в другом, а кроме того, и наша заведующая сказала, что это ревматоидный артрит: все серьезно, и пациентку срочно нужно переводить в терапевтическое отделение. Ну а я подумал: «Артрит и артрит — что тут такого?» Дело было в пятницу, я решил, что в понедельник этим займусь, потому что перевести человека в другое отделение в обычной больнице довольно сложно. Назначил какое-то лечение. В выходные у пациентки развился ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), и она умерла. Вполне вероятно, что ее можно было бы спасти в терапевтическом отделении, где имеют опыт лечения таких больных.
Конечно, я себя винил, но не до такой степени, чтобы уйти в запой или чтобы делать далеко идущие выводы о собственной квалификации. Это рабочая ситуация, и время лечит — постепенно ты перестаешь так остро переживать по этому поводу.
Фото: Татьяна Плотникова
Я прекрасно понимаю, почему больные и их родственники хотят, чтобы любая ошибка врача стала достоянием общественности. Они думают, что если этого не случается, то все сходит врачу с рук. На самом деле нет. Врачи переживают — не надо думать, что совесть нас не мучит. Начальство нас ругает, безнаказанным врач не остается. Просто сор из избы не выноситсяТвитнуть эту цитату К тому же пациенты или родственники могут думать, что врачи «покрывают» некомпетентного коллегу, тогда как на самом деле, они скрывают ошибку, которая возникла по объективным причинам.
Мне кажется, то, что родственникам не рассказывают об ошибках, нормально в наших условиях: врач за такое не должен садиться в тюрьму. Чтобы изменить ситуацию, нужно перевести вопрос о врачебной ошибке из уголовной плоскости в экономическую. Родственники или больной должны получать компенсацию, для чего у врача, конечно, должна быть страховка, но в России это, к сожалению, совсем не распространено. Понятно, что и врач не должен остаться безнаказанным, но пусть это будет дело профессионального сообщества, а не уголовного суда. Тебя должны лишать лицензии — как максимум. Я вас уверяю: если бы вместо угрозы тюрьмы была угроза перестать быть врачом, доктора не расслабились бы. Кто бы что ни говорил, а менять профессию никому из врачей не хочется.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы происходили разборы ошибок внутри врачебной ассоциации, чтобы мы спокойно говорили, и более опытные коллеги объясняли, как мне избегать таких ошибок в дальнейшем. В прессе это обсуждаться не должно: по сути, врачебная ошибка — это не новость, это случается каждый день.
Но, конечно, говоря все это, я не имею в виду случаи халатности. Когда человека с инфарктом привозят в больницу, а он еще два часа ждет помощи, потому что врач выпивает с коллегами, это не ошибка, это халатность. За нее предусмотрено уголовное наказание, и это правильно».
М. Е., онколог
«Пока ты работаешь врачом, ты будешь ошибаться. Если ты не хочешь совершать ошибки, в медицину лучше не идти. Я это понял с самого начала. Большинство врачебных ошибок связано не столько с халатностью или безответственностью, сколько с недостатком знаний, плохой организацией работы или даже нехваткой воли. Вот есть такой метод лечения инфекций, возникших на фоне тяжелого заболевания: переливание гранулоцитов (клеток крови), — но в 10 процентах случаев человек умирает от самого этого лечения. Когда у одного моего пациента была такая тяжелая инфекция, старшие коллеги посчитали, что необходимо переливание гранулоцитов. Я был против, но у меня не хватило, видимо, воли продавить это решение. Переливание сделали — пациент погиб. Конечно, до процедуры мы объяснили ему риски, но в такой ситуации нельзя говорить: «Иван Иванович за эту процедуру, а я против» — ты приходишь с консолидированным решением. Иначе человеку очень тяжело найти опору и сделать выбор.
Нет ни одного доктора, который никогда не ошибался бы в дозе, в скорости введения препарата. Особенно это касается онкологов, когда курс химиотерапии состоит из множества специфических лекарств. Считая на калькуляторе по сложной формуле, ты можешь нажать не ту цифру, и у тебя получится неправильная доза. И тут бывает, что жизнь спасает медсестра: если она понимает, что никогда не вводила 3 ампулы на 20 кг, она тебе об этом скажет. Но рассчитывать на это не стоит. В моем отделении был случай, когда врач почему-то написал, что калий нужно вводить не несколько часов, а 20 минут. Попалась неопытная медсестра, и ребенок погиб. Но по-хорошему, конечно, страховать должна не медсестра. Установлено, что введение компьютерных назначений на 20% уменьшает смертность в больницах, потому что программа просто не позволит тебе превысить дозу.
Фото: Татьяна Плотникова
Бывают ошибки из-за невнимательности, из-за чужих ошибок. Недавно ко мне пришла пациентка, которой год назад диагностировали рак молочной железы без метастазов, так как на УЗИ лимфоузлы не были увеличены. Но на операции провели биопсию узла, и оказалось, что раковые клетки есть. В выписке же стадию не поменяли. И вот приходит пациентка, у нее в заключении мелкими буквами написано, что найдены метастазы, но в выписке совсем другое. Я этого не заметил, или она вообще не приносила эту бумажку — в общем, лечили мы ее не так, как надо было, и у нее случился рецидив.
Если ошибка очевидна, то тебе не остается ничего другого, кроме как ее признать и извиниться. Конечно, в тюрьму никому не хочется, и если совершается фатальная ошибка, то естественное желание любого врача, чтобы родственники пациента о ней не узнали. Но медицина в этом смысле не уникальна. Если в ресторане повар не помыл после туалета руки, вам об этом никто не скажет — вы узнаете, только если у вас начнется понос. Если ты пытаешься скрыть ошибку, а родственники что-то подозревают, то нужно им все рассказать. Как минимум потому, что чем дальше скрываешь, тем больше у них возникает недоверия, подозрений и желания тебя наказать.
Конечно, любая ошибка задевает. Но ты не имеешь права долго приходить в себя. У тебя каждый день пациенты. Врач должен уметь переживать свои ошибки — это такая же часть профессионализма, как умение правильно мыть руки и проводить осмотр.
Чтобы менять ситуацию системно, для начала нужно признать, что все врачи ошибаютсяТвитнуть эту цитатуЧтобы менять ситуацию системно, для начала нужно признать, что все врачи ошибаются. На Западе перешли на открытую публикацию своих ошибок, и естественно, больницы стремятся сократить их количество. Вот ты понимаешь, что в этом отделении на 10 госпитализаций 2 больничные инфекции, — это больше, чем норма. Ты начинаешь разбираться: ага, санитарка не пользуется разовыми тряпками — почему? Потому что тряпки огромные и ей неудобно. Или вот частая ошибка: физраствор и калий в очень похожих ампулах, и их, конечно, путают, а это смертельно опасно. Поэтому на Западе ампулы красят в разные цвета. То есть зачастую важно не столько даже образование, сколько системное снижение элементарных ошибок: нужно расписать рутинные процессы, приобретать разноцветные ампулы, покупать удобные половые тряпки, и тогда меньше пациентов будет умирать».
А. Н., нейрохирург
«На первом году ординатуры я делал больной блокаду: после операции на позвоночнике она жаловалась на боль в спине. Ввел иглу и не потянул поршень шприца на себя, чтобы понять, где я нахожусь. Мне казалась, что я в мышце, которая спазмирована и болит. Я ввел 20 кубов длительно действующего анестетика — через несколько секунд у пациентки парализовало ноги, через секунду живот. Я потянул на себя поршень и увидел ликвор : я ввел анестетик прямо в субарахноидальное пространство (полость между оболочками спинного мозга — прим. ред.), и он стремился к голове. Я быстро покатил пациентку в реанимацию, по дороге у нее отключилась сначала грудь, потом руки, потом у нее запал язык. Когда в реанимации ее интубировали (ввели в гортань трубку для восстановления дыхания — прим. ред.) и опасность миновала, я был совершенно мокрый: я испугался, что убил пациентку. Когда действие анестетика закончилось и она пришла в себя, я ей честно сказал, что я ошибся. У нее не было абсолютно никаких претензий: «Ну бывает».
Врачи, которые принимают ошибки слишком близко к сердцу, профнепригодны: они отказываются от операций, начинают пить, нюхать кокаинТвитнуть эту цитатуК счастью, ошибок, которые привели к смерти пациента, у меня пока не было. Я еще в том возрасте и делаю такие операции, что моя ошибка может привести только к вреду здоровью, но не к смерти. Примерно через 5 лет, когда я сам начну делать очень сложные операции, у меня начнутся фатальные ошибки.
Чтобы справиться с эмоциональной составляющей после ошибки, я стараюсь говорить о произошедшем, обсуждать, вспоминаю ошибки своих учителей. Еще помогает юмор, физическая активность. Врачи, которые принимают ошибки слишком близко к сердцу, профнепригодны: они отказываются от операций, начинают пить, нюхать кокаин. Однажды в Германии я наблюдал, как профессор делал операцию на позвоночнике передним доступом (через живот). В этом случае есть риск повреждения полой вены. Ассистировал резидент из Индии. И хирург этот сосуд таки повредил. После чего индиец просто сказал: «Я лучше пойду». И ушел. Больше его никто не видел. То есть он не смог даже наблюдать за ситуацией, когда врач был в шаге от того, чтобы убить человека прямо сейчас из-за одного неверного движения. Такие люди не могут работать врачами.
Фото: Татьяна Плотникова
Очень часто врачи ошибаются, но даже не знают об этом, и до конца своих дней думают, что они хорошие специалисты. Например, у человека опухоль спинного мозга, а ставят диагноз «остеохондроз», лечат физиотерапией, прогреванием — тем, от чего опухоль растет. Пациент потом может обратиться к другому врачу, и первый невролог так ничего и не узнает. Я всегда даю пациентом свой номер телефона, чтобы они звонили и говорили, если я ошибся с диагнозом и лечением.
Если я вижу, что предыдущий врач ошибся, я, скорее всего, пациенту это прямо не скажуТвитнуть эту цитатуЕсли я вижу, что предыдущий врач ошибся, я, скорее всего, пациенту это прямо не скажу. Во-первых, обычно такая информация уже бесполезна. Во-вторых, это не принято. Медицинское сообщество очень закрытое, основные угрозы у нас снаружи, а не внутри. Это, в частности, государство, выдумавшее кучу норм, которые невозможно соблюдать. Поэтому есть негласная договоренность — поддерживать друг друга или хотя бы не трогать. Например, в судах по поводу врачебных ошибок очень важно мнение эксперта. Вот уважаемый хирург сталкивается с делом, которое касается ошибки врача другой больницы. Он изучает материалы и понимает, что обвиняемый накосячил. Несомненно, у хирурга найдется связь с главврачом этой больницы. Он ему позвонит и скажет: «Что за мудак у тебя работает? Гони его». Но на суде он этого не скажет: сегодня он навредит человеку из своего сообщества, а завтра сам станет предметом субъективного суждения.
Думаю, где-то половина ошибок врачей в России — из-за дефектов вузовского образования. Это самые страшные ошибки, которые вообще не должны происходить. С ними можно бороться стандартизацией, устанавливать какое-то дно, чтобы врач ни в коем случае не принимал опухоль спинного мозга за остеохондроз, чтобы врачи в своей работе основывались на доказательствах, а не традиции. Для этого в частности нужно хорошо преподавать английский. Сейчас это язык, с помощью которого врачи всего мира обмениваются информацией. И если ты не знаешь английский, ты в изоляции.
Но в СМИ проходятся по врачам вне зависимости от того, грамотный это человек или не очень. Вот говорят: «В Тамбове пациенту ввели не то лекарство, и он умер!» И тут вообще-то нужно сразу включать критическое мышление: какому человеку? какое лекарство? при каких обстоятельствах? что указано в результатах вскрытия? Обычно на все эти вопросы в статье никто не отвечает, а просто выступают с позиции «врачи — убийцы». Я знаю одного хирурга, который ежегодно спасает несколько сотен жизней. Шесть лет назад у него во время операции было одно серьёзное осложнение, которое привело к гибели пациентки. Эта история была раздута СМИ до такой степени, что до сих пор, если погуглить его имя, вылезают статьи только об этом случае. Это нанесло серьёзный удар по нему и его семье. Логично, что люди после подобных новостей скорее начнут лечиться собственной мочой, чем пойдут в поликлинику».
Канадский терапевт Брайан Голдман рассказывает в лекции на TED.COM о том, как важно врачам говорить о своих ошибках.
Кандидат медицинских наук Павел Бранд – о врачебных ошибках и врачах, которые не ошибаются.
«Классическое определение врачебной ошибки исключает ее уголовную подсудность. Звучит это определение так: Врачебная ошибка — незлоумышленное заблуждение врача (или любого другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности, если при этом исключается халатность и недобросовестность. Как-то странно судить человека за заблуждения. Так можно и за религиозные убеждения начать судить…
Самое сложное – это определить отсутствие халатности и недобросовестности в действиях врача. К сожалению, иногда это почти невыполнимая задача. Сложность связана с тем, что врач, зачастую, принимает решение единолично, без возможности посоветоваться, заглянуть в литературу, отказаться от принятия решения. В то время как оцениваются его действия постфактум, когда данных больше и время не поджимает.
Для облегчения работы врача существуют стандарты, алгоритмы, протоколы, рекомендации, гайдлайны, но они работают далеко не всегда и имеют существенные ограничения применения из-за того, что каждый пациент уникален, медицина динамично развивается и стандарты за ней не поспевают, в гайдлайнах частенько встречаются нечеткие формулировки, такие как “может быть эффективно”, “недостаточно данных” и т.д… Хотя четкое соблюдение протоколов и алгоритмов в экстренной ситуации позволяет существенно сократить число врачебных ошибок. Беда в том, что в России не принята концепция доказательности в медицине, а соответственно, международные протоколы и гайдлайны не имеют юридической силы, те же, что приняты в России, в большинстве своем морально устарели, либо не имеют отношения к объективной реальности. Тем не менее, российские стандарты и порядки оказания медицинской помощи, а теперь и клинические рекомендации, обязательны к исполнению, что само по себе может приводить к большому количеству ошибок.
Так чем же врачебная ошибка отличается от любой другой профессиональной ошибки?
Возьмем для наглядности те сферы профессиональной деятельности, где ошибки могут потенциально привести к человеческим жертвам. Строительство и авто/самолетостроение. Строители и инженеры тоже ошибаются. Их ошибки могут быть гораздо более опасны, чем ошибка врача, ведь падение высотного здания или авиакатастрофа могут унести сотни и тысячи жизней. Тем не менее, строителей и авиаинженеров судят за ошибки, а врачей нет. С чем же связана такая несправедливость? А связана она с тем, что все действия строителя и инженера поддаются математическому анализу. Все можно учесть и посчитать. Математика – точная наука, которая позволяет до сотых долей миллиметра рассчитать длину крыла или вычислить прочность балки. Если ошибся в расчётах и это привело к жертвам, добро пожаловать в суд. В математике дважды два всегда четыре. В медицине же, дважды два далеко не всегда четыре, чаще всего пять, периодически семь, а иногда и сто сорок восемь.
Одно и тоже заболевание может проявить себя совершенно по-разному у разных пациентов. Один и тот же симптом может встречаться при сотне заболеваний. Одно и тоже лекарство может прекрасно переносится одним пациентом и вызывать тяжелейшие побочные эффекты у другого. Анализы могут ничего не показывать при яркой клинической картине и быть совершенно ужасающими при внешнем благополучии. Во многих ситуациях врач вынужден опираться на опыт и интуицию, а не на расчеты или стандарты.
На производстве можно наладить контроль. Проверять каждую гайку, каждую деталь и делать это автоматически. И то, иногда случается брак. Мы знаем, что даже автомобили самых лучших брендов периодически отзываются из-за заводского брака. В медицине такой контроль невозможен. Критерии качества медицинской помощи неочевидны и, зачастую, неприменимы. Как, например, оценить качество паллиативной помощи? Или качество лечения рассеянного склероза, который имеет очень разные формы и их течение практически не зависит от врачей? Или качество химиотерапии, которая может вызывать и вызывает множество побочных эффектов, при этом совершенно необязательно продлевает жизнь? Ставить же контролера над каждым врачом экономически и медицински нецелесообразно…
Мы же не судим историков и синоптиков, не судим юристов и учителей, хотя их ошибки тоже могут приводить к фатальным последствиям, но всем понятно, что они имеют право на ошибку, ведь в их специальностях ничего нельзя сказать наверняка… Нам никогда не придет в голову судить сапера, которые не смог разминировать бомбу, взрыв которой привел к гибели людей. Даже если сам сапер выживет… Или пожарного, который не смог вынести ребенка из огня. Почему же мы хотим судить врачей за врачебные ошибки?
Особняком стоят водительские ошибки. Они тоже не поддаются расчетам и у водителя тоже может быть ограниченный временной промежуток на принятие решения, цена которого человеческая жизнь. Правда функций у водителя поменьше – руль вправо-влево, да 2-3 педали, плюс понятные и четко прописанные правила дорожного движения, которые должны быть выучены наизусть для получения прав.
Тем не менее водителей судят. А судят их потому, что водитель, садясь за руль добровольно берет на себя ответственность. Если плохо себя почувствовал или не в настроении может оставить машину и поехать на автобусе или на метро. Водители же профессиональные ограничены по времени беспрерывного вождения (обычно 8 часов), как раз во избежание ошибок. Врач же не имеет возможности не делать операцию в экстренной ситуации, поскольку будет обвинен в преступном бездействии. И всю необходимую для работы информацию выучить наизусть не может. Объема памяти не хватит… Длительность рабочего дня у врача от 6 до 36 часов.
Несомненно, существуют некомпетентные, грубые, халатные и недобросовестные врачи. Их немало. А вот определить такого врача бывает крайне непросто. Для того, чтобы выявлять таких врачей и отстранять от врачебной практики необходимо крепкое профессиональное сообщество, которого нет и в ближайшее время не предвидится, но это не означает, что его нужно заменить на Следственный Комитет.
Обсуждая врачебные ошибки следует помнить, что врачей, которые не ошибаются, не существует в природе. А главное, что врач тоже человек, а не богоподобное существо в белом халате», – написал Павел Бранд на своей странице в Фейсбук.
Как сообщалось ранее, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих – об уголовном наказании за врачебные ошибки. Подробнее читайте: Об уголовном наказании за врачебные ошибки.