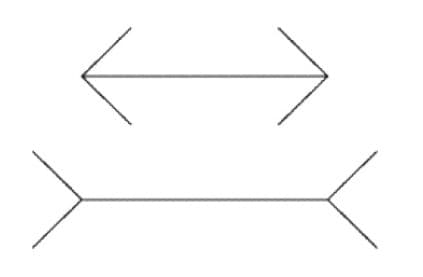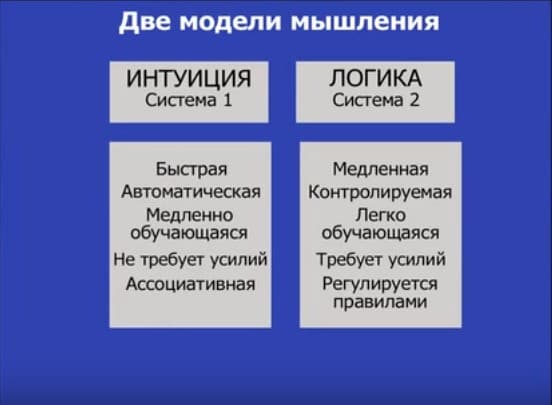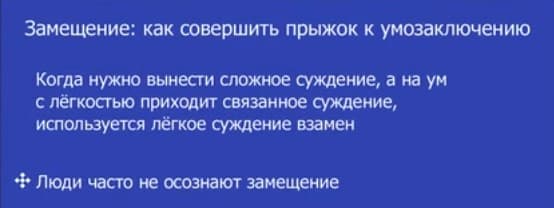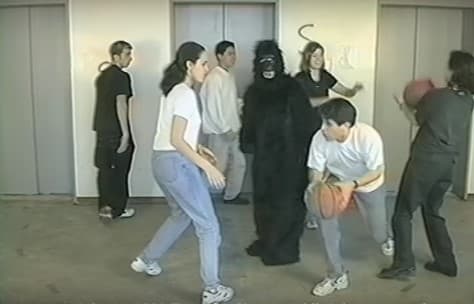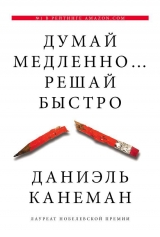Думать – не машины разгружать!
Давайте сравним длину верхнего и нижнего горизонтального отрезков.
Не правда ли, первое, что приходит в голову: верхний отрезок явно короче, нижний длиннее.
Возможно мы, будучи совершенно уверены в своей правоте, удовлетворились бы решением и вскоре забыли бы о задаче.
Но есть проблема: на деле отрезки равной длины. И чтобы убедиться в этом, нам достаточно измерить оба обыкновенной линейкой.
Ошибка, которую мы допустили вследствие поспешной визуальной оценки говорит о многом.
Она далеко не случайна и наглядно демонстрирует нам, как несовершенство нашего восприятия, дополненное специфическими
особенностями обработки уже искаженной нами информации, формируют неправильный ответ.
О том, почему мы ошибаемся в очевидной ситуации, какой может быть цена такой ошибки и как можно ее исправить рассказал
нобелевский лауреат, доктор психологии Дэниэль Канеман в книге «Мышление быстрое и медленное».
Книга Даниэля Канемана – настольное пособие для всех, кто настроен овладеть редчайшим искусством ясно мыслить и ясно излагать,
отсеивать истинные суждения от ложных стереотипов, находить в споре аргументы, которые будут иметь решающее значение,
оценивать риски того или иного решения объективно, а не интуитивно.
Канеман разрушил миф, на котором строится множество экономических теорий, ставящих во главу угла «человека рационального»,
способного, располагая достаточным объемом информации, уверенно принимать взвешенные, логически обоснованные решения
(модель «homo economicus»).
Он показал, что человек в своей природе скорее иррационален и оценивает события, ситуации и вероятные риски, руководствуясь
не столько логикой, сколько интуицией, субъективным опытом и социальными стереотипами.
Подобно тому, как публика на конференции с удовольствием и воодушевлением воспринимает внешне привлекательного лектора,
излучающего уверенность в себе и открыто зевает, если увлеченный оратор забыл «привести себя в соответствие» с ее ожиданием
(«эффект ореола»).
Думать – не машины разгружать – уверенно скажут многие! А в действительности все обстоит с точностью до наоборот.
Логический анализ при оценке той или иной ситуации отнимает у нас значительно больше энергии, чем физическая нагрузка.
Только в отличие от нас, наш мозг прекрасно знает об этом, и использует логику в решении текущих проблем лишь в крайнем случае,
предпочитая задействовать интуицию. И часто такой «легкий» путь приводит к серьезным ошибкам.
Почему, и как это работает, как формируются наши знания, навыки и ошибки, как развиваются и взаимодействуют между собой системы
мышления, отвечающие за интуитивный и логический анализ, мы расскажем ниже.
Система 1 и Система 2. Интуиция и логика
Существуют две Системы обработки информации, которые Канеман называет Системой 1 и Системой 2.
Система 1 работает интуитивно, «в автоматическом режиме» и обрабатывает информацию почти мгновенно.
Она не требует, или почти не требует усилий и не создает ощущения намеренного контроля. Система 2, напротив, требует
определенных сознательных умственных «затрат» и привлечения нашего внимания.
Действия Системы 2 связаны с логическим выбором и концентрацией.
Хотя Система 2 в процессе обработки информации и признает себя «субъектом, принимающим окончательное решение», большинство
наших решений – продукт Системы 1.
Способность вести оценку текущих задач с помощью Системы 1 развилась в ходе эволюции и стала основным фактором выживания
человека как вида. Как дела? Нет ли угрозы? Не просматривается ли удобная возможность?
Все ли в порядке? – На эти вопросы Система 1 отвечает автоматически и непрерывно.
А помогают ей в этом нейронные механизмы, сознательно отключить которые невозможно.
Результаты процесса обработки информации этими механизмами мы воспринимаем в готовом виде на понятном нам языке: если среда
оценивается Системой 1 как знакомая и безопасная = нам комфортно и легко.
Канеман предлагает рассматривать Систему 1 и 2 как двух независимых субъектов, обладающих собственными уникальными функциями,
способностями и ограничениями.
Модель Канемана и принцип наименьшего сопротивления
Все в природе движется и развивается по пути наименьшего сопротивления, предполагающего минимальные из всех возможных
энергозатраты.
Для того, чтобы убедиться в этом – достаточно внимательно присмотреться к потоку воды, впервые прокладывающему себе путь к
точке, расположенной ниже.
И процесс человеческого мышления – не исключение. Если работает Система 1 – интуиция, располагающая набором готовых ответов
и решений, то наш мозг чаще всего принимает совершенно естественное и природное решение: подключать возможности Системы 2 и
анализировать – чересчур «затратно».
Принимая решения, мы используем эвристический подход, который не является точным и оптимальным, но оказывается достаточен для
решения конкретной задачи.
Эвристические алгоритмы
позволяют нам максимально ускорить и упростить процесс принятия решения в тех случаях, когда точное решение найти слишком
трудоемко или проблематично в связи с отсутствием необходимых знаний.
Чаще всего, формируя ответ, мы руководствуемся собственной интуицией и мнением общества.
И это в большинстве случаев помогает найти подходящий для нас выход из положения «здесь и сейчас».
Но это срабатывает далеко не всегда …
Пример:
По условиям задачи бейсбольная бита стоит на 1$ дороже, чем бейсбольный мяч. В сумме мяч и бита стоит 1.10$.
Сколько стоит мяч?
Ответ, который практически сразу, автоматически приходит в голову абсолютному большинству людей – 10 центов.
Но, 10 ? – это неправильный ответ. Давайте убедимся:
Если мяч стоит 10?, а бита стоит на 1 $ дороже, то стоимость биты будет 1 + 0.1 = 1.10$.
Тогда в сумме мяч и бита будут стоить 1.10 +0.10 = 1.20$,что противоречит условиям задачи.
Правильный ответ – 0.05$. Тогда условия выполняются, поскольку бита будет стоить 1.00 + 0.05 = 1.05$ и мяч 0.05$.
Что в сумме даст 1.05 + 0.05 = 1.10$.
Проблема в том, что ответ, лежащий «на поверхности» – 0.10$.
Именно такой ответ дали более половины студентов Принстонского, Гарвардского и Массачусетского университетов даже после
некоторых размышлений!
Все, кто ответил неправильно, включая студентов, просто не проверили правильность своих рассуждений при помощи
простейших логических инструментов.
Они пренебрегли возможностями Системы 2, полностью доверившись интуиции и ассоциативному мышлению.
Система 1 способна реагировать на впечатления в связи с событиями о которых Система 2 и не подозревает.
Эта способность нашего мышления обеспечивает возникновение чувства симпатии при повторе ситуации, что психолог Роберт Зайонц
считал важнейшей биологической особенностью.
Это, по его мнению, позволяет живым организмам выживать, с осторожностью и опаской реагируя на новые раздражители.
Поэтому для животного, относящегося к незнакомой ситуации без подозрений перспектива выживания как вида снижается на порядок.
Эффективность работы Системы 1 зависит от нашего настроения: связь с интуицией прерывается, если мы расстроены или чувствуем
себя неловко.
Напротив, если мы в хорошем настроении, контроль Системы 2 ослабевает интуиция и наши способности к творчеству проявляют себя
полнее. Мы наслаждаемся состоянием «когнитивной легкости».
Вместе с тем, пропорционально ослаблению контроля со стороны Системы 2 растет вероятность совершения логических ошибок.
Задействование возможностей Системы 2 ограничит нас в креативности, но позволит избежать множества ошибок.
Как принимаются решения
Полученный опыт формирует у нас личный ассоциативный ряд – «библиотеку» слов и впечатлений, вызывающих у нас вполне конкретные
неприятные или, напротив, приятные ассоциации.
Если написать такое слово на доске и затем попросить прочитать, то наше тело и лицо отреагируют конкретным набором реакций.
Так, например, если слово несет положительную эмоциональную нагрузку – тело инстинктивно чуть подастся вперед, если
отрицательную – чуть отклонится назад.
Аналогично с мимикой – неприятное вызовет на лице напряжение и наденет соответствующую тревожно-недовольную маску.
Приятное, напротив, вызовет чуть заметную улыбку и расслабит лицевые мышцы.
Такую же реакцию можно ожидать в том случае, если приятное или неприятное слово будет нами услышано или если мы сможем увидеть
своими глазами то, чему оно соответствует.
Таким образом у каждого из нас на сознательном этапе жизни в памяти уже сформированы ярлыки, которые мы извлекаем, оценивая
ту или иную ситуацию.
Любой объект можно воспринять по-разному – дать одну из нескольких возможных интерпретаций.
Но то, какую именно интерпретацию при формировании оценочного суждения предпочтет Система 1 в каждый момент времени определяет
контекст: кто вероятнее будет играть в бридж, а кто в покер – банкир с Уолт-стрит или английский профессор?
Первым ответом, приходящим в голову абсолютному большинству реципиентов будет такой: банкир, вероятнее всего, выберет покер,
а профессор – бридж. Именно такой ответ, приходящий на уровне ассоциаций, сформировала наша культура.
При «навешивании ярлыков» варианты ответа, выпадающие из контекста, либо подавляются, либо попросту не приходят на ум.
В повседневной жизни Система 1 просто игнорирует этот факт, отметает двусмысленность и всякие сомнения в правильности выбора,
которые предлагает рассмотреть Система 2.
Система 1 «не сомневается» и сообщает сознанию, что выбор сделан, а мы даже не догадываемся, что выбор у нас был.
Это объясняет, почему большая часть ошибок совершается нами по вполне определенным шаблонам.
Чтобы стать гроссмейстером талантливому шахматисту потребуется 10 000 часов практики.
Гроссмейстер – это колоссальный живой банк информации, хранящий в памяти от 50 до 100 тысяч различных полезных комбинаций.
Но для того, чтобы обрести автоматический навык моментального принятия решений в том или ином деле, одних знаний и набора
ассоциаций оказывается мало. Требуется обратная связь.
И второе обязательное условие обретения навыка, необходимого для моментального принятия решений – наличие достаточного
отрицательного и положительного опыта.
Просто о сложном. Замещение
Нередко создается обманчивое впечатление, что человек может что-то сделать или предсказать абсолютно верно, хотя в
действительности гарантировать 100% правильных ответов невозможно.
Проблема в том, что предсказывая что-то при помощи инструментов интуиции, эксперты обращаются к данным и прошлому опыту.
Мы верим, что способны прогнозировать будущее, обращаясь к опыту прошлого, но в действительности мы зачастую знаем о прошлом
значительно меньше, чем нам кажется.
Инвестор, оценивающий эффективность вкладов в акции компании Форд, не найдя подходящих аргументов в пользу такого решения,
задался простым вопросом: «А насколько мне нравятся автомобили Форд?».
Положительный ответ на более простой вопрос, в конечном счете, определил его решение в пользу расширения инвестиций.
Используя свою интуицию и опыт, инвестор подменил более сложную задачу, требующую статистической оценки, на более простую.
Очевидно, что при таком подходе он переоценил собственное понимание вопроса и, руководствуясь ограниченным опытом прошлого,
недооценил вероятную роль случая в развитии будущих событий.
Наш пример показывает, что Система 1 оказывается невосприимчива ни к качеству, ни к количеству информации, используемой ею
для формирования прогнозов.
Более того, чем меньше знаний и опыта, тем проще Системе 1 выстроить согласованную схему из меньшего числа компонентов.
Проще говоря: чем меньше знаешь, тем быстрее отвечаешь.
Согласно исследованиям Канемана, предсказания, полученные путем математического расчета при помощи простейших логических
инструментов Системы 2 в большинстве случаев оказываются не хуже, а лучше результатов, полученных при использовании Системы 1.
Вероятная ошибка Системы 1 заключена в самом механизме обработки поступающей информации:
- Интуитивные инструменты системы 1 включаются на полную мощность всякий раз, когда требуется решить определенную задачу.
- Если человек располагает достаточным багажом знаний и опыта, Система 1 распознает ситуацию и выдает моментальное решение.
В большинстве случаев оно оказывается верным. - Если достаточной квалификации для решения вопроса нет, интуиция по-прежнему подыскивает наиболее близкие варианты
моментального ответа, но это уже будет ответом на другой вопрос.
Итак, существует очень короткий путь для формирования мозгом моментального ответа – дать более простую интерпретацию, чем та,
которую предполагает ответ на поставленный вопрос.
Мозг настроен совершить меньшую работу и затратить на это меньшую энергию, «соглашаясь» на то, что вероятность ошибки при этом
может увеличится.
Поэтому предпочтительней для решения большинства повседневных вопросов с этой точки зрения оказывается Система 1.
Этот прием разума называется замещением.
Как заметил психолог Дэниэль Гилберт в своем очерке «Как верят мыслительные системы», понимание утверждений начинается с
попытки в них поверить: сначала мы узнаем, что будет означать мысль, если она окажется верной.
И только после этого принимается решение: разувериться в ней или принять во внимание.
Система 2 склонна не доверять, Система 1, предлагающая автоматический ответ, напротив, склонна поверить. Поэтому,
«… Когда ресурсы Системы 2 загружены решением какой-то другой задачи, мы склонны поверить во что угодно».
Замещая смысл, мы отвечаем на простой вопрос, тогда как задан сложный.
Несмотря на подмену смысловых понятий, такая хитрость разума часто отлично срабатывает, но часто и уводит в сторону.
Поскольку механизм срабатывает автоматически, в большинстве случаев этот процесс наше сознание отследить неспособно.
Иллюзии и Конфликты
На объективность и качество решений, принимаемых Системой 1 влияет и то, какую информации для обработки мы ей «скармливаем».
Чем значительней искажения при восприятии нами того или иного объекта или фрагмента действительности, тем ниже качество
принимаемого нами решения.
Пример: давайте сравним рост фигур на рисунке выше.
Очевидно, что они неодинаковы по росту – дальняя фигура кажется выше, чем две предыдущие.
Аналогично, средняя кажется выше, чем ближайшая к нам и ниже, чем наиболее удаленная.
Но на самом деле, это один и тот же человек. В чем же здесь причина зрительного обмана?
Причина в том, что мы интерпретируем ситуацию в контексте 3-х измерений, тогда как для получения точного ответа на поставленный
вопрос фигуры нужно было бы расположить на плоскости. Тогда вероятность ошибки была бы сведена к несущественному минимуму.
Пример иллюстрирует, как моментальный ответ, который формирует Система 1 может ввести в заблуждение.
Помимо визуальных, Система 1 может продуцировать когнитивные иллюзии.
Чаще всего мы удовлетворяемся теми ответами, которые формирует для нас Система 1.
Но иногда мы испытываем странное и неприятное чувство, что мозг словно раздваивается.
Такое случается, когда логика и интуиция вступают в явное противоречие.
Пример: классический визуальный эксперимент, демонстрирующий конфликт между Системами:
При выполнении задачи, несмотря на попытки сконцентрироваться, мы постоянно «спотыкаемся» о противоречие между тем, что
намеревались выполнить и автоматической реакцией, которая явно тормозит процесс оценки.
Преодолеть затруднения и справится с задачей в итоге нам позволяет Система 2, «включившая» функцию самоконтроля и
преодолевшая «сбитую с толку» Систему 1.
Погрешности, связанные с ошибкой восприятия и интерпретации возникают повсеместно. Они неизбежны.
Становясь частью нашей статистической модели мира такие типичные ошибки становятся нашими «систематическими иллюзиями».
Поскольку Систему 1 сознательно отключить невозможно, то предотвратить визуальные и когнитивные ошибки мышления и избежать
конфликтов между двумя Системами проблематично. Но снизить их вероятность можно, привлекая ресурсы Системы 2.
Но постоянный самоконтроль крайне изнуряет.
Единственное компромиссное решение – учиться распознавать ситуации, создающие ошибки и задействовать ресурсы обоих систем в тех
случаях, когда ставки и риски очень высоки.
Невидимая Горилла
Поскольку объем нашего внимания (оперативной памяти), которым мы располагаем в каждый момент времени ограничен, он может быть
распределен лишь на конечное число решаемых задач.
Наши попытки «объять необъятное», уподобиться Цезарю и качественно решить одновременно несколько ресурсоемких задач обречены на
провал.
Сосредотачиваясь на чем-то одном люди фактически слепнут, хотя на другие события, происходящие с ними в тот же момент в иной
ситуации они обязательно обратили бы внимание.
Феномен «захвата внимания», описанный Канеманом блестяще продемонстрировал знаменитый эксперимент «Невидимая горилла»
(Invisible gorilla), проделанный в 1998 году Даниэлем Саймонсом и Кристофером Шабри и подробно описанный ими в
одноименной книге.
Для подтверждения своей идеи авторы предложили двум командам в белой и черной одежде провести импровизированный баскетбольный
матч. Зрителям предложили просчитать, сколько точных передач друг другу сделают игроки в белой футболке.
На игроков в черных футболках, также перебрасывающих друг другу мяч по условиям эксперимента внимания обращать было не нужно.
В середине ролика на импровизированную площадку вышла женщина в костюме гориллы.
Она неспешно пересекла все обозреваемое пространство справа-налево, задержалась на несколько секунд среди играющих,
развернувшись к зрителям и постучав себя по груди. В общей сложности она находилась в кадре 9 секунд.
Этот короткий ролик просмотрело тысячи зрителей и примерно половина из тех, кто
принял участие в эксперименте не обратили на гориллу никакого внимания. Они просто не заметили ее появления.
Их внимание было полностью захвачено подсчетом и дополнительно ограничено условием: не отвлекаться на игроков в одежде черного
цвета.
Как вы догадались, те зрители, которые не принимали непосредственного участия в эксперименте заметили гориллу в первые секунды
ее появления.
Эксперимент наглядно продемонстрировал ограниченность в способности Системы 1 видеть и ориентироваться: Система 1 справляется
со своими автоматическими функциями только при строгом ограничении числа внешних раздражителей.
Интересно, что те участники эксперимента, которые не обратили внимание на гориллу, были шокированы своей «невнимательностью».
Они оказались не просто слепы к очевидному, они даже не осознавали своей слепоты.
Итоги
На определенные обстоятельства и ситуации люди реагируют вполне определенным образом, зачастую совершая в момент оценки вполне
предсказуемые, типичные ошибки.
Такие ошибки Канеман назвал искажениями и доказал, что их причина – вовсе не определенный набор испытываемых эмоций, как
считали ранее, а особенности самого процесса мышления.
Мы принимаем оценочное решение руководствуясь в основном интуицией, а не сознанием и логикой, предполагающей, что одна мысль
становится естественным продолжением другой.
Главная работа разума, формирующая нашу оценку и ответную реакцию на событие, человека, ситуацию ведется незаметно для нас.
Таким образом обработка внешней и внутренней информации ведется человеческим мозгом в одном из двух режимов, которые
Д. Канеман для простоты назвал Системой 1 и Системой 2.
Эти Системы = Режимы способны работать независимо друг от друга и давать одному и тому же событию разную оценку.
Мы принимаем оценочное решение руководствуясь в основном интуицией, а не сознанием и логикой, предполагающей, что одна мысль
становится естественным продолжением другой.
Главная работа разума, формирующая нашу оценку и ответную реакцию на событие, человека, ситуацию ведется незаметно для нас.
Основная функция Системы 1 – информационная поддержка и обновление нашей личной модели окружающего мира, которая выстраивает
события и ситуации в соответствии с нашими представлениями о них.
Благодаря Системе 1 мы располагаем возможностью выявлять причинные связи, «вписываться» в окружающую действительность и
отсеивать аномалии вроде татуированных аристократов и беременных мужчин.
Пока мы пребываем в состоянии бодрствования, задействованы обе системы обработки информации.
Но основной процент оценочных суждений выносится Системой 1. При этом Система 1 стремится подавить неоднозначность и сомнения.
В случае, если Система 1 испытывает затруднения с обработкой информации, Система 2 перехватывает управление и в этом случае
чаще всего выносит окончательный вердикт.
Распределение функций и полномочий между системами 1 и 2 оказывается очень эффективным, поскольку обеспечивает максимум
производительности при минимуме энергозатрат. Большую часть времени такое распределение справляется с текущими задачами.
Система 1 формирует краткосрочные прогнозы и «работающие» модели ситуаций, оперативно и, в большинстве случаев, адекватно
реагируя на происходящее.
Но в некоторых случаях ее преимущество становится ее ограничением: при отсутствии достаточного количества информации для
анализа она дает легкие ответы на сложные вопросы.
При этом «отключить» Систему 1 невозможно: увидев на экране знакомое слово вы сможете прочитать его только в том случае,
если ваше внимание не захвачено чем-то другим.
Если отключить доминирующую Систему 1 невозможно, то как можно на практике сократить вероятность типичных (эвристических)
ошибок, связанных с ее несовершенством и ограниченностью?
Рассмотрим на примере.
Для того, чтобы минимизировать вероятность ошибок, возникающих вследствие ограничений Системы 1, руководителям компаний
предлагается воспользоваться простой и эффективной методикой. В ее основе лежит принцип независимости суждений.
Если перед руководством стоит задача принятия ответственного коллегиального решения, то все участники совещания высказывают
свое мнение до совещания. Это позволит использовать интеллектуальный и творческий потенциал группы по-максимуму.
Усредненный результат позволит получить наиболее точную оценку.
Напротив, в случае открытого обсуждения, мнения ораторов, говорящих первыми и выглядящих более убедительно подавляют
«здоровую» инициативу окружающих.
В следующих статьях о Ценных Идеях Дэниэля Канемана вы найдете другие ключики к тому, как преодолеть ограничения, связанные
с особенностью нашего мышления, оценки и восприятия. Как научиться сомневаться в те моменты, когда это действительно необходимо.
Как эффективнее использовать сильные стороны Систем 1 и Систем 2 для достижения лучших результатов.
Источники:
Дэниэль Канеман
«Думай медленно… Решай быстро»
Думай медленно решай быстро Интуиция и
рациональность с Даниэлем Канеманом
wikipedia.org
Дэн Ариэли
Ещё почитать:
Нерегрессивные предчувствия
Нерегрессивные предчувствия
Давайте вспомним старую знакомую:
Джули оканчивает университет штата. Она бегло читала в четыре года. Какой у нее средний балл?
Люди, знакомые с американской системой образования, быстро выдают число, зачастую близкое к 3,7 или 3,8. Как это происходит? Через несколько операций Системы 1.
• Ищется каузальная связь между исходными данными (умением Джули читать) и целью прогноза (средним баллом). Связь может быть непрямой. В данном случае и раннее умение читать, и высокий средний балл отражают хорошие способности, а значит, должна существовать какая-то связь. Вы (то есть ваша Система 2), скорее всего, посчитаете неважной информацию о том, что Джули выиграла соревнования рыболовов-любителей или успешно занималась тяжелой атлетикой в старших классах. Процесс, по сути, дихотомический: можно отбросить то, что заведомо неверно или неважно, но Система 1 не умеет принимать во внимание более мелкие недостатки данных. В результате интуитивные предсказания почти совершенно не учитывают реальные предсказывающие свойства информации. Если найдена связь, как в случае с ранним чтением Джули, срабатывает принцип «что ты видишь, то и есть»: ассоциативная память быстро и автоматически составляет наилучшую возможную при имеющейся информации историю.
• Затем данные оцениваются по отношению к соответствующей норме. Насколько необычно для четырехлетнего ребенка беглое чтение? Какая относительная позиция соответствует такому достижению? Ребенка сравнивают с некоторой группой (мы называем ее референтной), которая также не вполне определена, но в обычной речи так и бывает — если выпускника колледжа описывают как «довольно умного», вам редко приходится спрашивать: «Какую референтную группу вы имеете в виду, говоря „довольно умный“?»
• Далее происходит подстановка и соразмерение интенсивности. Вместо ответа на вопрос о среднем балле в колледже подставляется оценка ненадежных свидетельств детских когнитивных способностей. В процентном выражении Джули получит один и тот же результат и за средний балл, и за достижения по чтению в раннем возрасте.
• В вопросе оговаривалось, что ответ следует представить по шкале среднего балла, то есть требуется еще одно действие по сопоставлению интенсивности общего впечатления от учебных достижений Джули со средним баллом в колледже, подходящим к доказательствам ее таланта. Последний шаг — перевод впечатления об относительном положении Джули по успеваемости в соответствующий средний балл.
Сопоставление интенсивности рождает настолько же крайние предсказания, как и данные, на которых они основаны, и ведет к тому, что люди дают одни и те же ответы на два совершенно разных вопроса:
Каков процентильный балл Джули по раннему чтению?
Каков процентильный балл Джули по среднему баллу?
Сейчас вы легко определите все эти действия как функцию Системы 1. Я перечислил их здесь по порядку, но, разумеется, распространение активации в ассоциативной памяти происходит по-другому. Представьте, что процесс изначально запускается информацией и вопросом, сам себя подпитывает и в конечном итоге останавливается на самом когерентном из возможных решений.
Однажды мы с Амосом предложили участникам нашего исследования оценить описания восьми первокурсников колледжа, якобы составленные консультантом-психологом на основании собеседований, проведенных при зачислении. В каждом описании было пять прилагательных, как в этом примере:
умный, уверенный в себе, начитанный, прилежный, любознательный
Некоторых участников просили ответить на два вопроса:
Что вы думаете об их способностях к учебе, исходя из этого описания?
Какой процент описаний первокурсников, по вашему мнению, произвел бы на вас большее впечатление?
Вопросы требуют оценить данные, сравнивая эти описания с вашими нормами описаний студентов, составляемых психологами. Само существование таких норм удивительно. Вы наверняка не знаете, как вы их приобрели, но довольно отчетливо чувствуете уровень энтузиазма в этом описании: психолог считает, что студент хорош, но не потрясающе хорош. Можно употребить более сильные прилагательные, чем «умный» (например, выдающийся, творческий), «начитанный» (ученый, эрудированный, удивительно знающий) и «прилежный» (увлеченный, склонный к перфекционизму). Вердикт следующий: очень вероятно, что описываемый студент входит в 15 % лучших, но вряд ли входит в 3 % самых-самых. В таких оценках наблюдается удивительное единодушие — по крайней мере, внутри одной культуры.
Другим участникам нашего эксперимента задавали другие вопросы:
По вашему мнению, какой средний балл получит этот студент?
Каков процент первокурсников, которые получат более высокий средний балл?
Между этими парами вопросов существует трудноуловимая разница. Она должна бы быть очевидной, но это не так. В первой паре требуется оценить данные, а во второй много неопределенности. Вопрос касается реальных результатов в конце первого курса. Что случилось за год, прошедший со времени собеседования? Насколько точно можно предсказать реальные достижения студента на первом курсе колледжа по пяти прилагательным? Способен ли психолог совершенно точно предсказать средний балл по результатам собеседования?
Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сравнить процентильные оценки испытуемых, в одном случае сделанные по имеющимся данным, а в другом — при предсказании конечного результата. Итоги подвести легко: оценки оказались идентичны. Хотя пары вопросов различаются (одни — про описание, другие — про будущие результаты), участники воспринимают их как одинаковые. Как и в случае с Джули, предсказание будущего не отличается от оценки имеющихся данных, оно ей соответствует. Это лучшее из имеющихся у нас свидетельств роли подстановки. Испытуемых просят о предсказании, но они подставляют вместо него оценку данных, не замечая, что отвечают на вопрос, отличный от заданного. Такой процесс гарантированно ведет к получению систематически искаженных предсказаний, которые совершенно не учитывают регрессию к среднему.
Во время службы в Армии обороны Израиля я некоторое время провел в подразделении, где отбор кандидатов в офицеры проводился на основании серии собеседований и полевых испытаний. Критерием успешного предсказания считалась оценка курсанта при выпуске из школы офицеров. Надежность рейтингов была довольно низкой (об этом я расскажу подробнее в следующей части книги). Подразделение существовало и тогда, когда я уже стал профессором и вместе с Амосом изучал интуитивные оценочные суждения. Связи с подразделением у меня сохранились, и я попросил командование, чтобы, в дополнение к своим обычным оценкам кандидатов, они попробовали предсказать, какую оценку каждый из будущих курсантов получит в школе офицеров. Мы изучили несколько сотен таких предсказаний. Офицерам, делавшим предсказания, была известна «буквенная» система оценки, применяемая к курсантам школы, и примерное соотношение оценок «A», «B» и так далее. Выяснилось, что относительная частота «A» и «B» в предсказаниях была почти идентична их частоте в заключительных оценках школы.
Это — убедительный пример и подстановки, и сопоставления интенсивности. Офицеры, дававшие предсказания, абсолютно не смогли различить две задачи:
• привычное задание — оценка того, как кандидаты функционируют в подразделении;
• задание, которое дал им я, то есть предсказание будущей оценки кандидата в школе.
Командиры подразделения перевели свои оценки в шкалу, используемую в школе офицеров, с помощью сопоставления интенсивности. И вновь неспособность справиться с (существенной) неопределенностью своих предсказаний привела к тому, что их прогнозы оказались совершенно нерегрессивными.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Текст книги «Думай медленно… решай быстро»
Автор книги: Даниэль Канеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Разговоры о регрессии к среднему
«По ее словам, она по опыту знает, что критика эффективнее похвалы. Но она не понимает, что все это – просто результат регрессии к среднему».
«Возможно, второе собеседование впечатлило нас меньше потому, что кандидат боялся нас разочаровать. Однако, скорее всего, первое собеседование прошло необычайно хорошо».
«Процедура отбора хороша, но неидеальна, так что вероятна регрессия. Не стоит удивляться, что даже самые лучшие кандидаты часто не соответствуют нашим ожиданиям».
18. Как справляться с интуитивными предсказаниями
Жизнь дает нам много возможностей предсказывать. Экономисты прогнозируют инфляцию и безработицу, финансовые аналитики прогнозируют доходы, военные эксперты прогнозируют количество жертв, венчурные капиталисты оценивают прибыльность новых компаний, издатели и продюсеры предсказывают целевые аудитории, подрядчики оценивают время на выполнение проекта, шеф-повара предугадывают спрос на блюда в меню, инженеры вычисляют количество бетона, необходимое для строительства здания, начальники пожарных команд определяют число машин, требуемое для тушения пожара. В личной жизни мы предсказываем реакцию супруга на предлагаемый переезд или свою способность освоиться на новом рабочем месте.
Некоторые предсказательные оценки, например те, что дают инженеры, в основном полагаются на данные таблиц, точные вычисления и подробный анализ результатов, наблюдавшихся в подобных случаях. Для других предсказаний в действие вступают интуиция и Система 1, в двух основных формах. Бывают предчувствия, основанные в первую очередь на навыках и экспертизе, полученных повторением некоторого опыта. Быстрые автоматические оценки и выборы, совершаемые гроссмейстерами, пожарными и врачами, которые описал Гэри Кляйн в «Источниках силы» и других работах, иллюстрируют профессиональную интуицию: решение текущей проблемы быстро приходит в голову, поскольку обусловлено знакомыми подсказками.
Другие предчувствия, иногда субъективно неотличимые от первых, возникают в ходе эвристических процедур, которые часто заменяют заданный трудный вопрос более легким. Интуитивные суждения выносятся уверенно, даже если они основаны на нерегрессивных оценках слабых доказательств. Конечно, многие оценки, особенно в профессиональных областях, рождаются из сочетания анализа и интуиции.
Нерегрессивные предчувствия
Давайте вспомним старую знакомую:
Джули оканчивает университет штата. Она бегло читала в четыре года. Какой у нее средний балл?
Люди, знакомые с американской системой образования, быстро выдают число, зачастую близкое к 3,7 или 3,8. Как это происходит? Через несколько операций Системы 1.
• Ищется каузальная связь между исходными данными (умением Джули читать) и целью прогноза (средним баллом). Связь может быть непрямой. В данном случае и раннее умение читать, и высокий средний балл отражают хорошие способности, а значит, должна существовать какая-то связь. Вы (то есть ваша Система 2), скорее всего, посчитаете неважной информацию о том, что Джули выиграла соревнования рыболовов-любителей или успешно занималась тяжелой атлетикой в старших классах. Процесс, по сути, дихотомический: можно отбросить то, что заведомо неверно или неважно, но Система 1 не умеет принимать во внимание более мелкие недостатки данных. В результате интуитивные предсказания почти совершенно не учитывают реальные предсказывающие свойства информации. Если найдена связь, как в случае с ранним чтением Джули, срабатывает принцип «что ты видишь, то и есть»: ассоциативная память быстро и автоматически составляет наилучшую возможную при имеющейся информации историю.
• Затем данные оцениваются по отношению к соответствующей норме. Насколько необычно для четырехлетнего ребенка беглое чтение? Какая относительная позиция соответствует такому достижению? Ребенка сравнивают с некоторой группой (мы называем ее референтной), которая также не вполне определена, но в обычной речи так и бывает – если выпускника колледжа описывают как «довольно умного», вам редко приходится спрашивать: «Какую референтную группу вы имеете в виду, говоря „довольно умный“?»
• Далее происходит подстановка и соразмерение интенсивности. Вместо ответа на вопрос о среднем балле в колледже подставляется оценка ненадежных свидетельств детских когнитивных способностей. В процентном выражении Джули получит один и тот же результат и за средний балл, и за достижения по чтению в раннем возрасте.
• В вопросе оговаривалось, что ответ следует представить по шкале среднего балла, то есть требуется еще одно действие по сопоставлению интенсивности общего впечатления от учебных достижений Джули со средним баллом в колледже, подходящим к доказательствам ее таланта. Последний шаг – перевод впечатления об относительном положении Джули по успеваемости в соответствующий средний балл.
Сопоставление интенсивности рождает настолько же крайние предсказания, как и данные, на которых они основаны, и ведет к тому, что люди дают одни и те же ответы на два совершенно разных вопроса:
Каков процентильный балл Джули по раннему чтению?
Каков процентильный балл Джули по среднему баллу?
Сейчас вы легко определите все эти действия как функцию Системы 1. Я перечислил их здесь по порядку, но, разумеется, распространение активации в ассоциативной памяти происходит по-другому. Представьте, что процесс изначально запускается информацией и вопросом, сам себя подпитывает и в конечном итоге останавливается на самом когерентном из возможных решений.
Однажды мы с Амосом предложили участникам нашего исследования оценить описания восьми первокурсников колледжа, якобы составленные консультантом-психологом на основании собеседований, проведенных при зачислении. В каждом описании было пять прилагательных, как в этом примере:
умный, уверенный в себе, начитанный, прилежный, любознательный
Некоторых участников просили ответить на два вопроса:
Что вы думаете об их способностях к учебе, исходя из этого описания?
Какой процент описаний первокурсников, по вашему мнению, произвел бы на вас большее впечатление?
Вопросы требуют оценить данные, сравнивая эти описания с вашими нормами описаний студентов, составляемых психологами. Само существование таких норм удивительно. Вы наверняка не знаете, как вы их приобрели, но довольно отчетливо чувствуете уровень энтузиазма в этом описании: психолог считает, что студент хорош, но не потрясающе хорош. Можно употребить более сильные прилагательные, чем «умный» (например, выдающийся, творческий), «начитанный» (ученый, эрудированный, удивительно знающий) и «прилежный» (увлеченный, склонный к перфекционизму). Вердикт следующий: очень вероятно, что описываемый студент входит в 15% лучших, но вряд ли входит в 3% самых-самых. В таких оценках наблюдается удивительное единодушие – по крайней мере, внутри одной культуры.
Другим участникам нашего эксперимента задавали другие вопросы:
По вашему мнению, какой средний балл получит этот студент?
Каков процент первокурсников, которые получат более высокий средний балл?
Между этими парами вопросов существует трудноуловимая разница. Она должна бы быть очевидной, но это не так. В первой паре требуется оценить данные, а во второй много неопределенности. Вопрос касается реальных результатов в конце первого курса. Что случилось за год, прошедший со времени собеседования? Насколько точно можно предсказать реальные достижения студента на первом курсе колледжа по пяти прилагательным? Способен ли психолог совершенно точно предсказать средний балл по результатам собеседования?
Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сравнить процентильные оценки испытуемых, в одном случае сделанные по имеющимся данным, а в другом – при предсказании конечного результата. Итоги подвести легко: оценки оказались идентичны. Хотя пары вопросов различаются (одни – про описание, другие – про будущие результаты), участники воспринимают их как одинаковые. Как и в случае с Джули, предсказание будущего не отличается от оценки имеющихся данных, оно ей соответствует. Это лучшее из имеющихся у нас свидетельств роли подстановки. Испытуемых просят о предсказании, но они подставляют вместо него оценку данных, не замечая, что отвечают на вопрос, отличный от заданного. Такой процесс гарантированно ведет к получению систематически искаженных предсказаний, которые совершенно не учитывают регрессию к среднему.
Во время службы в Армии обороны Израиля я некоторое время провел в подразделении, где отбор кандидатов в офицеры проводился на основании серии собеседований и полевых испытаний. Критерием успешного предсказания считалась оценка курсанта при выпуске из школы офицеров. Надежность рейтингов была довольно низкой (об этом я расскажу подробнее в следующей части книги). Подразделение существовало и тогда, когда я уже стал профессором и вместе с Амосом изучал интуитивные оценочные суждения. Связи с подразделением у меня сохранились, и я попросил командование, чтобы, в дополнение к своим обычным оценкам кандидатов, они попробовали предсказать, какую оценку каждый из будущих курсантов получит в школе офицеров. Мы изучили несколь ко сотен таких предсказаний. Офицерам, делавшим предсказания, была известна «буквенная» система оценки, применяемая к курсантам школы, и примерное соотношение оценок «A», «B» и так далее. Выяснилось, что относительная частота «A» и «B» в предсказаниях была почти идентична их частоте в заключительных оценках школы.
Это – убедительный пример и подстановки, и сопоставления интенсивности. Офицеры, дававшие предсказания, абсолютно не смогли различить две задачи:
• привычное задание – оценка того, как кандидаты функционируют в подразделении;
• задание, которое дал им я, то есть предсказание будущей оценки кандидата в школе.
Командиры подразделения перевели свои оценки в шкалу, используемую в школе офицеров, с помощью сопоставления интенсивности. И вновь неспособность справиться с (существенной) неопределенностью своих предсказаний привела к тому, что их прогнозы оказались совершенно нерегрессивным и.
Коррекция интуитивных предсказаний
Вернемся к Джули, нашей одаренной читательнице. Метод правильного предсказания ее среднего балла описан в предыдущей главе. Как и ранее – для гольфа несколько дней подряд или для веса и игры на пианино, – я приведу схематическую формулу для факторов, определяющих оценку навыков чтения и оценки в колледже:
оценка навыков чтения = общие факторы + факторы, важные для оценки навыков чтения = 100%
средний балл = общие факторы + факторы, важные для среднего балла = 100%
К общим факторам относятся генетические способности, то, насколько семья поддерживает интерес к учебе, и все то, из-за чего одни и те же люди в детстве рано начинают читать, а в юности успешно учатся. Конечно, есть множество факторов, которые повлияют только на одно из этих событий: возможно, слишком требовательные родители научили Джули читать в раннем воз расте, или ее оценки в колледже пострадали из-за несчастной любви, или подростком, катаясь на лыжах, она получила травму, вызвавшую задержку в развитии, и так далее.
Вспомните, что корреляция между двумя величинами – в данном случае между оценкой навыков чтения и средним баллом – равна доле совпадающих определяющих факторов в их общем числе. По-вашему, как велика эта доля? По моим самым оптимистичным оценкам – примерно 30%. Если взять за основу эту цифру, то мы получим все исходные данные для того, чтобы сделать неискаженное предсказание, производя следующие четыре действия:
1. Начните с оценки типичного среднего балла.
2. Определите средний балл, соответствующий вашим впечатлениям от имеющихся сведений.
3. Оцените корреляцию между вашими данными и средним баллом.
4. Если корреляция составляет 0,30, переместитесь от типичного среднего балла на 30% расстояния в сторону сре днего балла, соответствующего впечатлениям.
Первый пункт дает вам точку отсчета, средний балл, который вы предсказали бы для Джули, если бы ничего о ней не знали. В отсутствие информации вы бы предсказали типичный средний балл. (Это похоже на то, как без других данных о Томе В. ему приписывают априорную вероятность студента по специальности «управление бизнесом».) Второй пункт – интуитивное предсказание, соответствующее вашей оценке данных. Третий пункт перемещает вас от точки отсчета в сторону интуиции на расстояние, зависящее от вашей оценки корреляции. В четвертом пункте вы получаете предсказание, учитывающее вашу интуицию, но гораздо более умеренное.
Это – общий подход, который можно применять при любой необходимости прогнозировать количественную переменную: например, средний балл, или доход от инвестиций, или рост компании. Он основывается на интуиции, но умеряет ее, сдвигает к среднему. Если существует веская причина доверять точности интуитивных предсказаний (то есть сильная корреляция между предсказанием и данными), такая поправка будет небольшой.
Интуитивные прогнозы необходимо корректировать, поскольку они нерегрессивны, а потому искажены. Предположим, я предскажу, что у каждого гольфиста на второй день турнира будет то же число очков, что и в первый. Эта оценка не учитывает регрессию к среднему: те, кто в первый день играл хорошо, в среднем на следующий день справятся хуже, а те, кто играл плохо, в основном станут играть лучше. Нерегрессивные предсказания всегда будут искаженными в сравнении с реальными результатами. В среднем они слишком оптимистичны для тех, кто хорошо играл вначале, и слишком мрачны для тех, кто плохо стартовал. Экстремальность прогноза соответствует экстремальности данных. Сходным образом, если использовать детские успехи для предсказания оценок в колледже без регрессии к среднему, то юношеские достижения ранних чтецов разочаровывают, а успехи тех, кто стал читать относительно поздно, приятно удивляют. Скорректированные интуитивные предсказания избавляются от этих искажений, так что и высокие, и низкие прогнозы примерно одинаково переоценивают и недооценивают истинное значение. Разумеется, даже неискаженные предсказания бывают ошибочны, но в таких случаях ошибки меньше и не склоняются в сторону завышенного или заниженного результата.
Защита экстремальных предсказаний?
Ранее мы познакомились с Томом В. для иллюстрации предсказаний дискретных результатов, например области специализации или успеха на экзамене, которые выражаются присвоением вероятности определенному событию (или, в случае с Томом, расположением результатов от наиболее до наименее вероятного). Я также описал процесс противодействия распространенным искажениям дискретных предсказаний: пренебрежению априорными вероятностями и нечувствительности к качеству информации.
Искажения в прогнозах, выражающихся в шкале, как, например, средний балл или доход фирмы, сходны с искажениями, наблюдающимися при оценке вероятностей исходов.
Процедуры коррекции также схожи:
• Обе содержат исходное предсказание, которое бы вы сделали при отсутствии информации. В случае с категориями это были априорные вероятности, в случае с цифрами – средний результат в соответствующей категории.
• Обе оценки содержат интуитивное предсказание, выражающее пришедшее в голову число, независимо от того, вероятность это или средний балл.
• В обоих случаях ваша цель – дать прогноз, находящийся посередине между исходным предсказанием и вашим интуитивным ответом.
• В случае, когда нет никаких данных, вы придерживаетесь исходного прогноза.
• В другом крайнем случае вы придерживаетесь своего интуитивного прогноза. Разумеется, это произойдет, если вы останетесь в нем уверены, критически пересмотре в данные в его пользу.
• Чаще всего вы найдете причины сомневаться в существовании идеальной корреляции между истиной и вашим интуитивным прогнозом и в итоге окажетесь где-то посередине.
Эта процедура – аппроксимация вероятных результатов надлежащего статистического анализа. В случае успеха она приведет вас к неискаженным прогнозам, разумным оценкам вероятности и умеренным предсказаниям численных результатов. Обе процедуры направлены на устранение одного и того же искажения: интуитивные прогнозы, как правило, отличаются чрезмерной уверенностью и экстремальностью.
Коррекция интуитивных предсказаний – задача для Системы 2. Для поиска соответствующей референтной категории, а также для оценки исходного прогноза и качества данных требуются значительные усилия. Они оправданы лишь в случае, когда ставки высоки, а вы усиленно стремитесь не допустить ошибки. Более того, необходимо помнить, что коррекция предсказаний может осложнить вам жизнь. Неискаженные прогнозы отличаются тем, что позволяют предсказывать редкие или экстремальные события лишь при наличии очень хорошей информации. Если вы ждете от своих предсказаний умеренной надежности, вы никогда не угадаете редкий или далекий от среднего результат. Если вы даете неискаженные прогнозы, вам никогда не испытать удовольствия правильно назвать редкий случай. Вы никогда не сможете сказать: «Я так и думал!», когда ваш студент-юрист станет верховным судьей или когда новая компания, казавшаяся вам очень перспективной, в итоге добьется огромного коммерческого успеха. С учетом ограничений данных вы никогда не предскажете, что способный старшеклассник будет учиться на «отлично» в Принстоне. По тем же причинам венчурному капиталисту никогда не скажут, что в начале развития у новой компании «очень высокая» вероятность успеха.
Возражения относительно принципа смягчения интуитивных прогнозов следует воспринимать всерьез, потому что отсутствие искажений – не всегда важнее всего. Неискаженные прогнозы предпочтительны, если все ошибки равнозначны, независимо от их направления. Однако встречаются ситуации, в которых один тип ошибок намного хуже другого. Когда венчурный капиталист ищет новый проект, риск упустить новый Google или Facebook намного важнее, чем риск вложить скромную сумму в заурядную новую компанию. Цель венчурных капиталистов – выявить особые случаи, даже если из-за этого они переоценят перспективы многих других предприятий. Для консервативного банкира, дающего большие займы, риск банкротства одного заемщика может перевесить риск отказа нескольким потенциальным клиентам, которые выполнили бы свои обязательства. В таких случаях использование категоричных выражений («отличные перспективы», «серьезный риск неплатежеспособности») может быть оправдано ради успокоения, даже если информация, на которой они основаны, всего лишь умеренно надежна.
Для разумного человека неискаженные умеренные предсказания не представляют проблемы. В конце концов, разумные венчурные капиталисты знают, что даже у самых многообещающих новых компаний шансы на успех весьма ограничены. Их работа – выбрать лучшие из имеющихся, и они не чувствуют потребности обманывать себя относительно перспектив проекта, в который собираются вложить деньги. Соответственно, рациональные индивиды, предсказывающие доход фирмы, не будут привязываться к одному числу, а рассмотрят диапазон неопределенности вокруг самого вероятного результата. Разумный человек, оценив предприятие, которое, скорее всего, потерпит неудачу, может вложить в него крупную сумму, если награда за успех будет достаточно велика, – но при этом не будет питать иллюзий насчет шансов на подобный исход. Однако не все мы рациональны, и многим необходимо ощущать себя защищенными от искаженных оценок, иначе способность принимать решения будет парализована. Если вы решите обманывать себя, принимая экстремальные прогнозы, не забывайте о том, что вы потакаете собственным желаниям.
Мои корректирующие процедуры ценны тем, что заставляют думать об объеме известной вам информации. Рассмотрим следующий, распространенный в научном мире пример, вызывающий прямые аналогии с другими сферами жизни: факультет собирается нанять молодого преподавателя и хочет выбрать кандидата с наилучшим потенциалом для научной работы. Выбор свелся к двоим.
Ким недавно закончила дипломный проект. У нее отличные рекомендации, она замечательно выступила и произвела на всех прекрасное впечатление во время собеседований. Серьезной истории научных исследований у нее нет.
Джейн последние три года занимала должность постдокторанта. Она очень эффективно работала, провела множество исследований, но доклад и собеседования были не такими яркими, как у Ким.
Интуитивно хочется выбрать Ким, потому что она произвела более сильное впечатление, а что ты видишь, то и есть. Однако информации о Ким гораздо меньше, чем о Джейн. Мы вернулись к закону малых чисел. По сути, выборка информации о Ким меньше, чем о Джейн, а в маленьких выборках намного чаще наблюдаются экстремальные результаты. В них большую роль играет удача, а значит, предсказания результатов Ким необходимо сильнее сместить к среднему. Допустив, что Ким регрессирует сильнее, чем Джейн, вполне можно выбрать Джейн, хотя она произвела на вас более слабое впечатление. Делая выбор в научной среде, я бы голосовал за Джейн, хотя и приложил бы некоторые усилия для преодоления интуитивного впечатления о большей перспективности Ким. Следовать предчувствиям естественнее и приятнее, чем действовать вопреки им.
Легко представить себе похожие проблемы в других ситуациях, например, когда венчурному капиталисту необходимо выбрать, в какую из двух новых компаний, работающих на разных рынках, вложить деньги. У одной компании есть продукт, спрос на который можно довольно точно оценить. Другая фирма привлекательна и – с точки зрения интуиции – кажется многообещающей, но ее перспективы менее надежны. Следует задуматься о том, сохранит ли прогноз возможностей второй компании свою большую привлекательность после учета неопределенности.
Annotation Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление — автоматическое, мгновенное и неосознаваемое… Аннотация Введение Истоки Что происходит сейчас Что будет дальше Часть I: Две системы 1 Действующие лица Две системы Краткое содержание Конфликт Иллюзии Полезные выдумки Разговоры о Системе 1 и Системе 2 2 Внимание и усилия[19] Умственные усилия Разговоры о внимании и усилиях 3 Ленивый контролер Занятая и опустошенная Система 2 Ленивая Система 2 Интеллект, контроль, рациональность Разговоры о контроле
4 Ассоциативный механизм[51] Чудеса прайминга Что нас направляет Разговоры о прайминге 5 Когнитивная легкость Иллюзия воспоминаний Иллюзия истины Как написать убедительное сообщение Напряжение и усилия Радостная легкость восприятия Легкость, настроение и интуиция Разговоры о когнитивной легкости 6 Нормы, неожиданности и причины Определение нормы Понимание причин и намерений Разговоры о н ормах и причинах 7 Механизм поспешных выводов Игнорирование неоднозначности и подавление сомнений Склонность верить и подтверждать Преувеличенная эмоциональная когерентность (эффект ореола) Что ты видишь, то и есть (WYSIATI) Разговоры о поспешных выводах 8 Как выносятся суждения Базовые оценки Наборы и прототипы Сопоставление интенсивности «Мысленный выстрел дробью» Разговоры о суждениях 9 Ответ на более легкий вопрос Подстановка вопросов Эвристика трехмерности Эвристика настроения вместо счастья
Эвристика аффекта Разговоры о подстановках и эвристических методах Часть II: Методы эвристики и искажения 10 Закон малых чисел Закон малых чисел Предпочтение уверенности сомнению Причина и случай Разговоры о законе малых чисел 11 Эффект привязки Эффект привязки как способ корректировки Привязка как эффект предшествования Индекс привязки Использование привязок и злоупотребление ими Эффект привязки и две системы Разговоры об эффекте привязки 12 Наука доступности Психология доступности Разговоры о доступности 13 Доступность, эмоции, риск Доступность и аффект Общество и эксперты Разговоры о каскаде доступной информации 14 Специальность Тома В Предсказания по репрезентативности Недостатки репрезентативности Как тренировать интуицию Разговоры о репрезентативности 15 Линда: лучше меньше Меньше — лучше, иногда даже при совместной оценке Разговоры о ситуациях, где «лучше меньше» 16 Причины побеждают статистику Каузальные стереотипы
Каузальные ситуации Можно ли научить психологии? Разговоры о причинах и статистике 17 Регрессия к среднему Талант и удача Понимание регрессии к среднему Разговоры о регрессии к среднему 18 Как справляться с интуитивными предсказаниями Нерегрессивные предчувствия Коррекция интуитивных предсказаний Защита экстремальных предсказаний? Взгляд на регрессию с точки зрения двух систем Разговоры об интуитивных предсказаниях Часть III: Чрезмерная уверенность 19 Иллюзия понимания «Задний ум» и его цена для общества Рецепты успеха Разговоры о ретроспективном искажении 20 Иллюзия значимости Иллюзия значимости Иллюзия умения играть на фондовом рынке Что подкрепляет иллюзии умения и значимости? Иллюзии экспертов Эксперт не виноват — просто мир сложно устроен Разговоры об иллюзии умения 21 Интуиция и формулы — кто кого? Нетерпимость к алгоритмам Учимся у Мила Сделай сам Разговоры об экспертах и формулах 22 Интуиция экспертов: когда стоит ей доверять? Чудеса и ошибки Интуиция как распознавание
Обретение умений Контекст развития умений Обратная связь и практика Определение значимости Разговоры об интуиции экспертов 23 Взгляд извне Взгляд изнутри и его преимущества Ошибка планирования Смягчение последствий ошибки планирования Решения и ошибки Проваленный экзамен Разговоры о «стороннем взгляде» 24 Двигатель капитализма Оптимисты Заблуждения предпринимателей Пренебрежение конкуренцией Излишняя уверенность «Прижизненный эпикриз» — частичное решение проблемы Разговоры об оптимизме Часть IV: Выбор 25 Ошибки Бернулли Ошибка Бернулли Разговоры об ошибках Бернулли 26 Теория перспектив Неприятие потерь Пробелы в теории перспектив Разговоры о теории перспективы 27 Эффект владения Эффект владения Думать как трейдер Разговоры об эффекте владения 28 Неудачи Преобладание негативного
Цели — отправные ориентиры Сохранить статус-кво Неприятие потерь в юриспруденции Разговоры о потерях 29 Четырехчастная схема Коррекция шансов Парадокс Алле Взвешивание решений Четырехчастная схема Игры за кулисами суда Разговоры о четырехчастной схеме 30 Редкие события Переоценка и придание чрезмерного веса Яркие исходы Яркие вероятности Решения на основании общих впечатлений Разговоры о редких событиях 31 Политика рисков Широкий или узкий? Задача Самуэльсона Политика рисков Разговоры о политике рисков 32 Ведение счетов Мысленные счета Сожаление Ответственность Разговоры о подсчете 33 Инверсии Сложная экономика Категории Несправедливые инверсии Разговоры об инверсиях 34 Рамки и реальность
Эмоциональные рамки Пустые догадки Хорошие рамки Разговоры о рамках и реальности Часть V: Два «Я» 35 Два «я» Ощущаемая полезность Опыт и память На какое «я» полагаться? Биология против рациональности Разговоры о двух «я» 36 Жизнь как история Амнестический отпуск Разговоры о жизни как истории 37 Ощущение благополучия Ощущаемое благополучие Разговоры об ощущении благополучия 38 Оценка жизни Иллюзия фокусировки Время и снова время Разговоры об оценке жизни Выводы Два «я» Эконы и гуманы Две системы Приложение А: Репрезентативность Доступность Корректировка и эффект привязки Обсуждение Summary Примечания Приложение В: Выбор в условиях риска Формулировка исходов путем рамочного анализа (фрейминг)
Психофизика шанса Эффекты формулировки Сделки и обмен Потери и затраты Заключительные замечания Литература Примечания Благодарности notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 «Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман»: АСТ; Москва; 2014 ISBN 978-5-17-080053-7
Аннотация Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление — автоматическое, мгновенное и неосознаваемое…
Введение Пожалуй, каждый автор размышляет о том, где читателям может пригодиться его книга. Моя будет полезна у пресловутого офисного кулера, где судачат и обмениваются новостями. Я надеюсь разнообразить набор слов, описывающих суждения и выбор других, новую политику компании или инвестиционные решения коллег. Зачем обращать внимание на пересуды? Затем, что находить и называть чужие ошибки намного легче и приятнее, чем признавать свои. Всегда трудно ставить под сомнение собственные желания и убеждения, особенно в нужный момент, но грамотное чужое мнение может быть полезно. Мы непроизвольно ждем от друзей и коллег оценки наших решений, а потому качество и содержание ожидаемых оценок имеет значение. Необходимость разумно сплетничать — мощный стимул для серьезной самокритики, даже мощнее данного себе на Новый год обещания принимать более взвешенные решения на работе и дома. Хороший врач-диагност собирает множество названий-ярлыков, связывающих идею болезни с ее симптомами, возможными причинами, предыдущими событиями, путями ее развития и последствиями, а также способами ее излечить или облегчить течение. Изучение языка медицины — неотъемлемая часть изучения ее самой. Более глубокое понимание суждений и выбора требует расширенного — в сравнении с повседневным употреблением — словарного запаса. Разумные сплетни основываются на том, что основную часть ошибок люди совершают по определенным шаблонам. Такие систематические ошибки, называемые искажениями, предсказуемо возникают в одних и тех же обстоятельствах. Например, аудитория склонна более благоприятно оценивать привлекательного и уверенного в себе оратора. Эта реакция получила название «эффект ореола», что сделало ее предсказуемой, распознаваемой и понятной. Обычно вы можете сказать, о чем думаете. Процесс мышления кажется понятным: одна осознанная мысль закономерно вызывает следующую. Но разум работает не только так; более того, в основном он работает по-другому. Большинство впечатлений и мыслей возникают в сознании неизвестным вам путем. Невозможно отследить, как вы пришли к убеждению, что перед вами на столе стоит лампа, как во время телефонного разговора определили легкое раздражение в голосе жены или как смогли избежать аварии на дороге раньше, чем осознали опасность.
Умственная работа, ведущая к впечатлениям, предчувствиям и многим решениям, обычно происходит незаметно. В этой книге подробно обсуждаются ошибки интуиции. Это вовсе не попытка опорочить человеческий разум — ведь, например, обсуждение болезней в медицинских текстах ни в коем случае не отрицает хорошего здоровья. Большую часть времени мы здоровы, и наши действия и суждения преимущественно соответствуют ситуации. Идя по жизни, мы позволяем себе руководствоваться впечатлениями и чувствами, и наша уверенность в собственной интуиции обычно оправдана. Но не всегда. Часто мы уверены в себе, даже если неправы, однако объективный наблюдатель с легкостью замечает наши ошибки. Поэтому я и надеюсь, что моя книга поможет улучшить способность узнавать и понимать ошибки суждений и выбора — сначала у других, а со временем и у себя, — предоставив читателю богатый и точный язык для их описания. В некоторых случаях верное диагностирование проблемы подскажет меры воздействия, которые уменьшат вред, нанесенный неверными суждениями и ошибочными решениями.
Истоки Эта книга представляет мое текущее понимание оценочных суждений и принятия решений, сложившееся под влиянием открытий психологии, сделанных за последние десятилетия. Основные идеи, изложенные здесь, возникли у меня в 1969 году, когда я пригласил коллегу выступить на семинаре, проводимом факультетом психологии Еврейского университета в Иерусалиме. Тогда Амос Тверски был восходящей звездой в исследованиях процессов принятия решений — впрочем, как и во всех областях своей научной деятельности, — поэтому я не сомневался, что будет интересно. Умный, общительный и харизматичный, Амос обладал великолепной памятью на шутки и анекдоты, умело применяя их при объяснении важных проблем. Рядом с ним никогда не бывало скучно. Ему тогда было тридцать два, а мне — тридцать пять. Амос рассказал студентам о программе исследований в Мичиганском университете, призванной ответить на вопрос: «Обладает ли человек интуитивным пониманием статистики?» Про грамматику все было известно: четырехлетние дети в речи соблюдают грамматические правила, не имея представления об их существовании. Но есть ли у людей похожее интуитивное восприятие правил статистики? Амос утверждал, что ответ — «да», с определенными оговорками. Мы провели бурную дискуссию на семинаре и пришли к выводу, что вернее было бы ответить «нет», с определенными оговорками. После этого мы с Амосом решили, что интуитивная статистика — отличная тема для совместного исследования. В ту же пятницу мы встретились в «Кафе Римон», где любит собираться иерусалимская богема и профессура, и составили план изучения статистической интуиции серьезных исследователей. На семинаре мы пришли к выводу, что наша собственная интуиция ненадежна. За годы преподавания и использования статистики в работе мы так и не приобрели интуитивное ощущение правильности статистических результатов, полученных на малых выборках. Наши субъективные суждения оказывались предвзятыми: мы слишком охотно верили исследованиям, в которых было недостаточно доказательств, да и для своих собственных исследований отбирали недостаточно примеров[1]. Нам захотелось выяснить, страдают ли другие исследователи тем же недугом. Мы подготовили вопросник с реалистичными статистическими
проблемами, возникающими во время исследований. На конференции Общества математической психологии Амос раздал анкеты экспертам, среди которых оказались авторы двух учебников по статистике. Как мы и предполагали, наши коллеги-эксперты существенно преувеличили вероятность того, что первоначальный результат эксперимента будет успешно повторен на маленькой выборке. Вдобавок вымышленная студентка получила отвратительные советы насчет нужного ей количества наблюдений. Как выяснилось, даже у статистиков плохо со статистической интуицией. Пока мы писали статью, обнаружилось, что нам с Амосом нравится работать вместе. Амос был неисправимым шутником, в его присутствии я тоже острил, и мы с ним работали и одновременно развлекались часами напролет. Удовольствие от совместной работы повысило нашу целеустремленность — гораздо легче добиваться совершенства, если тебе не скучно. Но самое важное было, наверное, в том, что мы не злоупотребляли критикой, хотя оба любили спорить и выискивать ошибки, Амос даже больше, чем я. Тем не менее за долгие годы нашего сотрудничества мы ни разу с ходу не отмели ни одно предположение друг друга. К тому же радовало то, что Амос часто лучше меня понимал смысл моих неопределенных идей. Он мыслил более логично, ориентировался на теорию и всегда придерживался намеченного пути. Я больше опирался на интуицию, основываясь на психологии восприятия — из этой области мы почерпнули много идей. Сходство наших характеров обеспечивало взаимопонимание, а наши различия помогали удивлять друг друга. В конечном итоге мы стали проводить большую часть рабочего времени вместе, часто подолгу гуляя. Четырнадцать лет сотрудничество определяло наши жизни, и в эти годы мы добились лучших результатов за всю свою карьеру. Выработанная нами процедура соблюдалась много лет. Исследования велись в форме дискуссий, где мы придумывали вопросы и вместе рассматривали наши интуитивные ответы. Каждый вопрос был маленьким экспериментом, и за день мы проводили их множество. Мы не искали единственно правильный ответ на заданные статистические вопросы. Наша цель состояла в распознавании и анализе интуитивного ответа, который первым приходил в голову, который хотелось дать, даже если мы знали, что он неверен. Мы решил и — и, как оказалось, правильно, — что интуитивный ответ, пришедший в голову нам обоим, придет в голову и многим другим, а потому легко будет продемонстрировать влияние такой интуитивной реакции на оценочные суждения.
Однажды, к обоюдному восторгу, мы обнаружили, что у нас абсолютно одинаковые дурацкие представления о том, кем станут несколько знакомых нам малышей. Мы опознали трехлетнего адвоката- спорщика, зануду-профессора, чуткого и не в меру любопытного психотерапевта. Мы понимали абсурдность этих предсказаний, но они нам все равно нравились. Было очевидно, что наша интуиция основывалась на сходстве каждого из детей с культурным стереотипом профессии. Это забавное упражнение помогло нам разработать теорию о роли, которую сходство играет в предсказаниях. Потом мы проверили и развили эту теорию при помощи множества экспериментов вроде следующего. Отвечая на этот вопрос, считайте, что Стива случайным образом отобрали из репрезентативной выборки: Некто описывает своего соседа: «Стив очень застенчив и нелюдим, всегда готов помочь, но мало интересуется окружающими и действительностью. Он тихий и аккуратный, любит порядок и систематичность и очень внимателен к деталям». Кем вероятнее работает Стив: фермером или библиотекарем? Все немедленно отмечают сходство Стива с типичным библиотекарем, но почти всегда игнорируют не менее важные статистические соображения. Вспомнилось ли вам, что на каждого мужчину-библиотекаря в США приходится более 20 фермеров? Фермеров настолько больше, что «тихие и аккуратные» почти наверняка окажутся за рулем трактора, а не за библиотекарским столом. И все же мы обнаружили, что участники наших экспериментов игнорировали статистические факты и полагались исключительно на сходство. Мы предположили, что испытуемые использовали сходство как упрощающую эвристику (грубо говоря, сугубо практическое правило), чтобы легче прийти к сложному оценочному суждению. Доверие к эвристике, в свою очередь, вело к прогнозируемым искажениям (постоянным ошибкам) в предсказаниях. В другой раз мы с Амосом задумались о количестве разводов среди преподавателей нашего университета. Мы заметили, что в поисках ответа начали вспоминать известных нам разведенных профессоров и судили о размерах категорий по тому, с какой легкостью находили примеры. Мы назвали стремление опираться на легкость перебора сведений в памяти эвристикой доступности. В одном из наших исследований мы попросили участников ответить на простой вопрос о словах[2] в обычном английском тексте: Возьмем букву K. На каком месте в слове она встретится чаще: на первом или на
третьем? Игроки в скрэбл прекрасно знают, что для любой буквы алфавита гораздо легче вспомнить слово, которое с нее начинается, чем найти то, где она на третьем месте. Поэтому мы ожидали, что респонденты будут преувеличивать частоту, с которой на первом месте появляются даже те буквы (например, K, L, N, R, V), которые в действительности чаще встречаются на третьем. В этом случае доверие к эвристике опять дает предсказуемое искажение в суждениях. Еще пример: недавно я усомнился в своем давнем впечатлении, что супружеская неверность чаще встречается среди политиков, чем среди врачей или юристов. В свое время я даже придумал для этого «факта» объяснения, включая притягательность власти и соблазны, возникающие при жизни вдали от дома. В конечном итоге я понял, что о проступках политиков сообщают намного чаще, чем о проступках юристов и врачей. Мое интуитивное впечатление могло сложиться исключительно под влиянием тем, выбираемых журналистами для репортажей, и из-за склонности полагаться на эвристику доступности. Мы с Амосом несколько лет изучали и фиксировали искажения интуитивного мышления в различных задачах: расчете вероятности событий, предсказании будущего, оценке гипотез и прогнозировании частотности. На пятом году сотрудничества мы опубликовали основные выводы наших исследований в журнале Science, который читают ученые из разных областей науки. Эта статья под названием «Суждения в условиях неопределенности: эвристические методы и ошибки» полностью приведена в заключительной части данной книги. Она описывает схемы упрощения в интуитивном мышлении и объясняет около 20 искажений, возникающих при формировании суждений с применением эвристики. Исследователи истории науки часто отмечают, что в любой момент времени в рамках определенной дисциплины ученые преимущественно основываются на одних и тех же основных допущениях в своей области исследований. Социальные науки — не исключение; они полагаются на некую общую картину человеческой натуры, которая дает основу для всех обсуждений конкретного поведения, но редко ставится под сомнение. В 1970-е годы общепринятыми считались два положения. Во-первых, люди в основном рациональны и, как правил о, мыслят здраво. Во-вторых, большинство отклонений от рациональности объясняется эмоциями: например, страхом, привязанностью или ненавистью. Наша статья поставила под сомнение оба эти допущения, но не обсуждала их напрямую. Мы задокументировали постоянные ошибки мышления нормальных людей
и обнаружили, что они обусловлены скорее самим механизмом мышления, чем нарушением процесса мышления под влиянием эмоций. Статья вызвала значительный интерес и до сих пор является одной из самых цитируемых в сфере социальных наук (по состоянию на 2010 год на нее ссылалось более трехсот научных статей). Она оказалась полезна ученым в других дисциплинах, а идеи эвристики и искажений нашли эффективное применение во многих областях, включая медицинскую диагностику, юриспруденцию, анализ данных, философию, финансы, статистику и военную стратегию. К примеру, политологи отметили, что эвристика доступности помогает объяснить, почему некоторые вопросы в глазах общественности находятся на первом плане, а другие остаются в тени. Относительная важность проблем часто оценивается по легкости их вспоминания, а это в значительной степени определяется тем, насколько подробно вопрос освещается в средствах массовой информации. То, что часто обсуждают, заполняет умы, а прочее ускользает из сознания. В свою очередь, СМИ выбирают темы для репортажей, следуя своим представлениям о том, что сейчас волнует публику. Авторитарные режимы неслучайно оказывают значительное давление на независимые СМИ. Поскольку публику легче всего заинтересовать драматическими событиями и жизнью знаменитостей, СМИ часто раздувают ажиотаж. К примеру, в течение нескольких недель после смерти Майкла Джексона было практически невозможно найти телеканал, освещающий другую тему. И наоборот, важным, но не слишком захватывающим вопросам, вроде падения стандартов образования или чрезмерного использования медицинских ресурсов в последний год жизни, уделяется мало внимания. (Я пишу это, понимая, что при выборе примеров «не освещаемых» вопросов я руководствовался доступностью. Эти темы упоминают часто; есть не менее важные, но менее доступные проблемы, которые мне в голову не пришли.) Мы не сразу осознали, что главной причиной привлекательности теории эвристики и искажений за пределами психологии оказалась второстепенная особенность нашей работы: наши статьи включали в себя список вопросов, заданных респондентам. Вопросы наглядно демонстрировали читателю, как когнитивные искажения сбивают его собственные мысли. Надеюсь, вы тоже это заметили, когда читали задание о Стиве-библиотекаре, призванное помочь вам уяснить роль сходства в оценке вероятности и увидеть, с какой легкостью игнорируются важные статистические факты. Ученым из других областей науки — философам и экономистам —
использование примеров предоставило необычную возможность отслеживать потенциальные изъяны в своем мышлении. Осознав собственные провалы, исследователи стали охотнее ставить под сомнение распространенное в то время предположение о рациональности и логичности человеческого разума. Выбор способа изложения сыграл ключевую роль: если бы мы сообщили только о результатах обычных экспериментов, статья оказалась бы менее заметной и запоминающейся. Более того, скептически настроенные читатели пренебрегли бы результатами, отнеся их на счет ошибок из-за печально известной безответственности студентов — основных участников психологических исследований. Разумеется, мы выбрали наглядные примеры вместо обычных экспериментов не для того, чтобы впечатлить философов и экономистов, — с наглядными примерами было интереснее работать. Наш выбор, как и многие другие наши решения, оказался удачным. В этой книге постоянно повторяется мысль о том, что везение играет значительную роль в большинстве историй успеха; почти всегда легко определяется тот фактор, незначительное изменение которого превратило бы выдающееся достижение в посредственный результат. Наша история — не исключение. Впрочем, наша статья понравилась не всем. В частности, некоторые сочли наше внимание к искажениям признаком излишне негативного отношения к разуму[3]. Другие исследователи, напротив, развили наши идеи или предложили для них достоверные замены[4]. В общем и целом современные исследователи согласны с мыслью о том, что наши умы склонны к систематическим ошибкам. Наше исследование оценочных суждений оказало неожиданно сильное влияние на социальные науки. Завершив обзор принципов формирования оценочных суждений, мы обратили внимание на принятие решений в условиях неопределенности. Мы хотели разработать психологическую теорию принятия решений в простых азартных играх. Например, сделаете ли вы ставку на бросок монеты, если вы выигрываете 130 долларов в случае выпадения орла и проигрываете 100 долларов на решке? Такие простые вопросы давно используют для исследования широкого спектра проблем в области принятия решений: например, какое относительное значение люди придают надежности и сомнительности исходов. Наша методология не изменилась — мы целыми днями выдумывали проблемы выбора и смотрели, совпадают ли наши интуитивные предпочтения с логикой выбора. Здесь, так же как и при исследовании оценочных суждений, наблюдались систематические отклонения в наших собственных решениях и
интуитивных предпочтениях, которые постоянно нарушали рациональные правила выбора. Через пять лет после появления статьи в журнале Science мы опубликовали статью «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска», где изложили теорию выбора, которая стала одной из основ поведенческой экономики и считается значительней, чем наша работа об оценочных суждениях. Пока нам с Амосом не мешала география, наш коллективный разум превосходил каждую из своих составляющих, а наши дружеские отношения делали исследования не только продуктивными, но и чрезвычайно занимательными. Именно за нашу совместную работу в области оценочных суждений и принятия решений в условиях неопределенности я получил в 2002 году Нобелевскую премию[5], которая по праву принадлежит и Амосу. К глубочайшему прискорбию, он скончался в 1996 году, в возрасте пятидесяти девяти лет.
Что происходит сейчас Эта книга не описывает наши с Амосом ранние исследования; за прошедшие годы с этой задачей достойно справились другие авторы. Моя основная цель — продемонстрировать работу разума с учетом последних открытий в когнитивной и социальной психологии, ведь сейчас мы лучше понимаем не только недостатки, но и чудеса интуитивного мышления. Мы с Амосом не рассматривали точные интуитивные догадки, ограничившись простым заявлением о том, что для формирования мнений эвристика «довольно полезна, но временами ведет к серьезным системным ошибкам». Мы сосредоточились на искажениях, поскольку считали, что они сами по себе интересны и к тому же служат доказательствами в области эвристики суждений. Мы не задавались вопросом, являются ли интуитивные суждения в условиях неопределенности продуктом изучаемой нами эвристики (теперь ясно, что не являются). В частности, точные интуитивные предсказания экспертов лучше объясняются длительной практикой[6]. Сейчас существует более полное и сбалансированное представление о том, что источниками интуитивных суждений и выборов являются как умения, так и эвристический подход. Психолог Гэри Кляйн приводит рассказ о пожарных, которые вошли в дом, где горела кухня[7]. Они начали заливать помещение водой, как вдруг начальник пожарной команды закричал: «Уходим отсюда!» Едва пожарные выбежали с кухни, провалился пол. Брандмейстер лишь потом осознал, что огонь был необычно тихим, а уши невероятно обжигало. Эти ощущения, по словам пожарного, задействовали «шестое чувство опасности». Он знал, что есть опасность, но не знал, какая именно. Впоследствии выяснилось, что пожар разгорелся не в самой кухне, а в подвале, под тем местом, где стояли пожарные. Всем знакомы сходные истории об интуиции экспертов: гроссмейстер, проходя мимо игроков в парке, объявляет, что черных ждет мат в три хода; врач с одного взгляда ставит пациенту сложный диагноз. Интуиция экспертов кажется волшебством, но это не так. В действительности каждый из нас по много раз на дню демонстрирует мастерство интуиции. Мы определяем гнев по первому же слову в телефонном звонке; входя в комнату, понимаем, что речь шла о нас; стремительно реагируем на неуловимые признаки того, что водитель в соседней машине опасен. Наши повседневные интуитивные способности хотя и привычны своей
заурядностью, однако не менее удивительны, чем потрясающие озарения опытного пожарного или врача. Психология точной интуиции не содержит никакой магии. Пожалуй, лучше всех ее кратко описал Герберт Саймон, который, исследуя процесс мышления гроссмейстеров[8], показал, что после тысяч часов занятий шахматисты иначе видят фигуры на доске. Саймон, раздраженный приписыванием сверхъестественных свойств интуиции экспертов, однажды заметил: «Ситуация дала подсказку[9], подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция — это не что иное, как узнавание». Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит: «Собака», потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают: «Собака!» К несчастью, не все догадки экспертов возникают из профессионального опыта. Много лет назад я встретился с директором крупной финансовой корпорации, который вложил несколько десятков миллионов долларов в акции Автомобильной компании Форда. Я поинтересовался, почему он так решил, и он ответил, что недавно побывал на автомобильной выставке, которая ему очень понравилась. «Какие у них автомобили!» — повторял он в качестве объяснения. Он отчетливо дал мне понять, что руководствовался внутренним ощущением, и был весьма доволен и собой, и своим решением. Мне показалось интересным, что, судя по всему, он не задал себе единственный вопрос, который экономист счел бы самым важным, а именно: «Цена этих акций сейчас ниже себестоимости?» Вместо этого директор прислушался к интуиции — ему понравились автомобили, понравилась компания, понравилась мысль приобрести ее акции. Из известной нам информации о принципах выбора акций можно заключить, что он не понимал, что делает. Та область эвристики, которую изучали мы с Амосом, не поможет понять, почему этот финансист приобрел акции. В последние годы эвристическая теория развилась, расширилась и способна дать хорошее объяснение подобным действиям. Основным достижением стало то, что сейчас эмоциям отводится гораздо больше места в понимании
интуитивных решений и выбора. Решение этого финансиста сегодня объяснили бы эвристикой аффекта[10], когда решения и суждения выносятся на основании непосредственно чувств приязни и неприязни, практически без раздумий или аргументации. Столкнувшись с любой задачей — будь то выбор хода в шахматах или решение об инвестициях, — механизм интуитивного мышления включается на полную мощность. Если у человека есть подходящие знания, интуиция распознает ситуацию, и интуитивное решение, приходящее в голову, вероятнее всего, окажется верным. Так происходит с гроссмейстером: когда он смотрит на доску, у него в мыслях возникают только сильные ходы. Когд а вопрос трудный и квалифицированного решения нет, у интуиции все равно есть шанс: ответ быстро придет в голову, но это будет ответ на другой вопрос. Перед директором по инвестициям стоял трудный вопрос: «Вкладывать ли деньги в акции компании „Форд“?» Но его выбор определил ответ на другой вопрос, более легкий и родственный исходному: «Нравятся ли мне автомобили „Форд“?» В этом и состоит суть интуитивной эвристики: столкнувшись с трудным вопросом, мы отвечаем на более легкий, обычно не замечая подмены[11]. Спонтанный поиск интуитивного решения не всегда успешен: время от времени в голову не приходит ни рационально обоснованный ответ, ни эвристическая догадка. В таких случаях мы часто переключаемся на более медленную и глубокую форму мышления, требующую больших усилий. Это и есть «медленное мышление», упомянутое в названии моей книги. Быстрое мышление включает оба варианта интуиции, то есть экспертные знания и эвристику, а также все те абсолютно автоматические действия мозга в области восприятия и памяти, которые позволяют вам вспомнить столицу России или определить, что на столе стоит лампа. За последние двадцать пять лет многие психологи исследовали различия между быстрым и медленным мышлением. В следующей главе я подробно объясню, почему описываю деятельность разума через взаимодействие двух составляющих: Системы 1 и Системы 2, которые отвечают за быстрое и медленное мышление соответственно. Я говорю об особенностях интуитивного и осознанного мышления так, будто это — черты характера и склонности двух персонажей у вас в голове. По результатам последних исследований складывается картина, согласно которой интуитивная Система 1 влияет на происходящее сильнее, чем вам кажется из опыта, и тайно влияет на множество ваших выборов и суждений. Основная часть этой книги посвящена устройству Системы 1 и
ее взаимодействию с Системой 2.
Что будет дальше Книга разделена на пять частей. Первая часть описывает основы подхода к суждениям и выбору на базе двух систем. Она уточняет разницу между автоматическими действиями Системы 1 и контролируемыми действиями Системы 2 и показывает, как ассоциативная память, составляющая ядро Системы 1, постоянно строит связную интерпретацию происходящего в мире в любой заданный момент. Я попытаюсь продемонстрировать сложность и насыщенность автоматических, бессознательных процессов, лежащих в основе интуитивного мышления, и того, как эти автоматические процессы объясняют эвристику суждений. Цель этой части — ознакомить читателя с терминологией, необходимой для осознания и обсуждения деятельности разума. Вторая часть дополняет исследования эвристики суждений и рассматривает основную проблему: почему нам трудно думать статистически? Ассоциативное, метафорическое, причинно-следственное (каузальное) мышление дается легко, но для статистического мышления необходимо думать сразу о многом, а этого Система 1 не умеет. Трудности статистического мышления отражены в третьей части, описывающей удивительное ограничение нашего разума: чрезмерную уверенность в том, что мы якобы знаем, и явную неспособность признать полный объем нашего невежества и неопределенность окружающего мира. Мы склонны переоценивать свое понимание мира и недооценивать роль случая в событиях. Чрезмерная уверенность подпитывается иллюзорной достоверностью оглядки на прошлое. Мои взгляды на эту проблему сложились под влиянием Нассима Талеба, автора книги «Черный лебедь». Я надеюсь, что разговоры у кулера помогут проанализировать опыт прошлого и противостоять иллюзии достоверности и соблазну ретроспективной оценки. Четвертая часть — диалог с экономическими дисциплинами о природе принятия решений и о предполагаемой рациональности всех экономических субъектов. Этот раздел описывает существующие представления (с учетом двух систем) об основных положениях теории перспектив, нашей с Амосом модели выбора, опубликованной в 1979 году. В разделе приведены схемы того, как люди при выборе отклоняются от правил рациональности, описаны досадные тенденции изолированного рассмотрения проблем, а также эффекты фрейминга (установки рамок),
когда решения принимаются из-за несущественных особенностей, связанных с задачей выбора. Эти наблюдения, легко объясняющиеся свойствами Системы 1, противоречат допущению о рациональности, принятому в экономических дисциплинах. Пятая часть описывает исследования, посвященные различиям двух «я» — назовем их ощущающим «я» и вспоминающим «я», — у которых не совпадают интересы. К примеру, можно заставить человека пережить два неприятных эпизода, один из которых (с формальной точки зрения) хуже другого, поскольку длится дольше. У автоматического формирования воспоминаний — черта, присущая Системе 1, — есть свои правила, которые можно использовать для того, чтобы более неприятный эпизод оставил лучшие воспоминания. Когда испытуемому впоследствии предлагают повторение эпизодов на выбор, он, руководствуясь вспоминающим «я», подвергает себя (свое ощущающее «я») лишней боли. Различие между двумя «я» применяется для измерения благополучия, и в результате выясняется, что ощущающее «я» и вспоминающее «я» радуются разному. То, какими методами два «я» в одном теле стремятся к счастью, ставит непростые вопросы — как перед индивидами, так и перед обществами, где благополучие населения рассматривается как часть политических решений и инициатив. Заключительная часть рассматривает, в обратном порядке, выводы, вытекающие из трех различий, обсуждаемых в этой книге: различие между ощущающим «я» и вспоминающим «я»; различие между пониманием субъекта в классической экономике и в поведенческой экономике (которая заимствует кое-что из психологии); и различие между автоматической Системой 1 и требующей усилий Системой 2. Я возвращаюсь к рассмотрению достоинств разумных сплетен и к тому, что следует предпринять организациям для улучшения качества решений и суждений, которые принимаются и выносятся от их имени. В книге есть приложения: две статьи, написанные мной в соавторстве с Амосом. Первая — это ранее упомянутый обзор принятия решений в условиях неопределенности. Вторая, опубликованная в 1984 году, кратко описывает теорию перспектив и наши исследования эффектов фрейминга. Эти статьи входили в число работ, представленных Нобелевскому комитету, и вас, возможно, удивит их простота. Прочитав их, вы получите представление и о наших прежних знаниях, и о том, что мы поняли за последние десятилетия.
Часть I: Две системы
1 Действующие лица Чтобы пронаблюдать, как ваш мозг работает в автоматическом режиме, взгляните на следующую картинку. Рис. 1 При виде этого лица ваш опыт легко соединяет то, что мы обычно называем видением, и интуитивное мышление. Вы быстро и уверенно определили, что у женщины на фотографии темные волосы, и точно так же легко поняли, что она злится. Более того, вы поняли и кое-что о будущем. Вы почувствовали, что сейчас она произнесет какие-то весьма недобрые слова, и, вероятно, громким и резким голосом. Это предчувствие пришло вам в голову автоматически и без усилий. Вы не собирались оценивать ее настроение или прогнозировать ее поступки, а реакция на фотографию не ощущалась как действие. Просто так случилось. Это пример быстрого мышления. Теперь посмотрите на следующую задачу: 17 x 24
Вы немедленно поняли, что это — пример на умножение, и, вероятно, поняли, что можете его решить при помощи бумаги и ручки, а может, и без них. Также вы интуитивно оценили примерный диапазон возможных результатов. Вы быстро поймете, что ответы 12 60 9 и 123 не подходят, но вам понадобится некоторое время, чтобы отвергнуть число 568. Точное решение в голову не пришло, а сами вы ощутили, что у вас есть выбор относительно того, решать пример или нет. Если вы до сих пор этого не сделали, вам стоит сейчас попробовать и хотя бы частично вычислить результат. Последовательно проходя эти шаги, вы получили опыт медленного мышления. Сначала вы извлекли из памяти выученную в школе когнитивную программу умножения, а затем применили ее. Для вычисления пришлось напрячься. Вы ощутили нагрузку на память из-за большого объема материала, поскольку вам нужно было одновременно следить за тем, что вы уже сделали и что собираетесь сделать, и при этом не забыть промежуточный результат. Весь процесс был работой разума: целенаправленной, трудоемкой и упорядоченной, — образец медленного мышления. В вычислении был задействован не только ваш разум, но и тело. Вы напрягли мышцы, у вас поднялось давление, участился пульс. Сторонний наблюдатель заметил бы, что во время решения у вас расширились зрачки. Они сократились до нормального размера, как только вы завершили работу и нашли ответ (408) или как только вы бросили решать пример. Две системы Уже несколько десятилетий подряд психологи настойчиво интересуются двумя режимами мышления: тем, который запускает портрет разъяренной женщины, и тем, что запускает задача на умножение. Для этих режимов существует множество названий[12]. Я пользуюсь терминами, которые изначально предложили психологи Кейт Станович и Ричард Уэст, и буду говорить о двух системах мышления: Системе 1 и Системе 2. • Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля. • Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений. Действия Системы 2 часто связаны с субъективным ощущением деятельности[13],
выбора и концентрации. Понятия Системы 1 и Системы 2 широко используются в психологии, но я в этой книге захожу дальше остальных: ее можно читать как психологическую драму с двумя действующими лицами. Думая о себе, мы подразумеваем Систему 2 — сознательное, разумное «я», у которого есть убеждения, которое совершает выбор и принимает решения, о чем думать и что делать. Хотя Система 2 и считает себя главным действующим лицом, в действительности герой этой книги — автоматически реагирующая Система 1. Я полагаю, что она без усилий порождает впечатления и чувства, которые являются главным источником убеждений и сознательных выборов Системы 2. Автоматические действия Системы 1 генерируют удивительно сложные схемы мыслей, но лишь более медленная Система 2 может выстроить их в упорядоченную последовательность шагов. Далее будут описаны обстоятельства, в которых Система 2 перехватывает контроль, ограничивая свободные импульсы и ассоциации Системы 1. Вам предлагается рассматривать эти две системы как два субъекта, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, ограничениями и функциями. Вот что может сделать Система 1 (примеры ранжированы по возрастанию сложности): • Определить, какой из двух объектов ближе. • Сориентироваться в сторону источника резкого звука. • Закончить фразу «Хлеб с…». • Изобразить гримасу отвращения при виде мерзкой картинки. • Определить враждебность в голосе. • Решить пример 2 + 2 =? • Прочитать слова на больших рекламных билбордах. • Вести машину по пустой дороге. • Сделать сильный шахматный ход (если вы — гроссмейстер). • Понять простое предложение. • Определить, что описание «тихий, аккуратный человек, уделяющий много внимания деталям» похоже на стереотип, связанный с некоей профессией. Все эти действия относятся к тому же разряду, что и реакция на рассерженную женщину: они происходят автоматически и не требуют (или почти не требуют) усилий. Возможности Системы 1 включают в себя наши внутренние навыки, которые мы разделяем с другими животными. Мы рождаемся готовыми воспринимать окружающий мир, узнавать предметы, направлять внимание, избегать потерь и бояться пауков. Другие действия
разума становятся быстрыми и автоматическими после долгой тренировки. Система 1 запомнила связь между идеями (столица Франции?) и научилась опознавать и понимать тонкости ситуаций, возникающих при общении. Некоторые навыки, вроде умения находить хорошие ходы в шахматах, приобретают только специалисты-эксперты. Другие умения достаются многим. Чтобы определить сходство описания личности со стереотипом профессии, требуются широкие языковые и культурологические познаний, имеющиеся у многих. Знания хранятся в памяти, и мы получаем к ним доступ без сознательного намерения и без усилий. Некоторые действия в этом списке абсолютно не произвольны. Вы не можете удержаться от понимания простых предложений на родном языке или от того, чтобы обратить внимание на громкий неожиданный звук; вы не запретите себе знать, что 2 + 2 = 4, или вспомнить Париж, если кто-то упоминает столицу Франции. Ряд действий — например, жевание — можно контролировать, но обычно они выполняются на автопилоте. Контроль за вниманием осуществляют обе системы. Ориентирование на громкий звук обычно происходит непроизвольно, при помощи Системы 1, а затем немедленно и целенаправленно мобилизуется внимание Системы 2. Возможно, вы сдержитесь и не обернетесь, услышав громкое обидное замечание на шумной вечеринке, но, даже если ваша голова не шелохнется, поначалу вы все равно обратите на него внимание, хотя бы ненадолго. Впрочем, от нежеланного объекта внимание можно отвлечь, и лучший способ — сосредоточиться на другой цели. У разнообразных функций Системы 2 есть одна общая черта: все они требуют внимания и прерываются, когда внимание переключают. Например, с помощью Системы 2 можно исполнить следующее: • Готовиться к сигналу старта в забеге. • Наблюдать за клоунами в цирке. • Услышать в переполненной шумной комнате голос нужного человека. • Заметить седую женщину. • Идентифицировать удививший звук, порывшись в памяти. • Намеренно ускорить шаг. • Следить за уместностью поведения в определенной социальной ситуации. • Считать количество букв «а» в тексте. • Продиктовать собеседнику свой номер телефона. • Припарковаться там, где мало места (если только вы не профессиональный парковщик). • Сравнить две стиральные машины по цене и функциям.
• Заполнить налоговую декларацию. • Проверить состоятельность сложных логических аргументов. Во всех этих ситуациях необходимо быть внимательными, а если вы не готовы или отвлекаетесь, то справитесь хуже или не справитесь совсем. Система 2 может изменить работу Системы 1, перепрограммировав обычные автоматические функции внимания и памяти. Например, ожидая родственника на переполненном людьми железнодорожном вокзале, можно настроиться на то, чтобы искать седую женщину или бородатого мужчину, и, таким образом, увеличить шансы увидеть ее или его издали. Можно напрячь память, чтобы вспомнить названия столиц, начинающиеся с буквы «Н», или романы французских писателей-экзистенциалистов. Когда вы берете напрокат автомобиль в лондонском аэропорту Хитроу, вам наверняка напомнят, что «у нас ездят по левой стороне». Во всех этих случаях вас просят сделать что-то непривычное, и вы обнаружите, что для этого требуются постоянные усилия. Мы часто пользуемся формулировкой «будь внимательнее» — и она вполне справедлива. У нас имеется ограниченный объем внимания, который можно распределить на различные действия, и если выйти за пределы имеющегося, то ничего не получится. Особенность таких занятий в том, что они мешают друг другу, и именно поэтому трудно или даже невозможно выполнять сразу несколько. Невозможно вычислить произведение 17 24, поворачивая налево в плотном потоке машин; не стоит даже пробовать. Можно делать несколько дел сразу, но только если они легкие и не слишком требуют внимания. Вероятно, можно разговаривать с сидящим рядом, если вы ведете машину по пустому шоссе, а многие родители обнаруживают — пусть даже и с некоторой долей неловкости, — что могут читать ребенку сказку, думая о чем-то другом. Все более или менее осознают ограниченные возможности внимания, а наше поведение в обществе учитывает эти ограничения. К приме ру, если водитель машины обгоняет грузовик на узкой дороге, взрослые пассажиры вполне разумно умолкают. Им известно, что отвлекать водителя не стоит; вдобавок они подозревают, что он временно «оглох» и не услышит их слова. Сосредоточившись на чем-либо, люди, по сути, «слепнут», не замечая того, что обычно привлекает внимание. Нагляднее всего это продемонстрировали Кристофер Шабри и Дэниел Саймонс в книге «Невидимая горилла». Они сняли короткометражный фильм о баскетбольном матче, где команды выступают в белых и черных футболках. Зрителей просят посчитать количество передач, которое сделают игроки в
белых футболках, не обращая внимания на игроков в черном. Это трудная задача, требующая полного внимания. Примерно в середине ролика в кадре появляется женщина в костюме гориллы, которая пересекает площадку, стучит себя по груди и уходит. Она находится в кадре в течение 9 секунд. Ролик видели тысячи людей, но примерно половина из них не заметила ничего необычного. Слепо та наступает из-за задания на подсчет, особенно из-за указаний не обращать внимания на одну из команд. Зрители, не получившие этого задания, гориллу не пропустят. Видеть и ориентироваться — автоматические функции Системы 1, но они выполняются, только если на соответствующие внешние раздражители отведен некоторый объем внимания. По мнению авторов, самое примечательное в их исследовании то, что людей очень удивляют его результаты. Зрители, не заметившие гориллу, поначалу уверены, что ее не было, — они не в состоянии представить, что пропустили такое событие. Эксперимент с гориллой иллюстрирует два важных факта: мы можем быть слепы к очевидному и, более того, не замечаем собственной слепоты. Краткое содержание Взаимодействие двух систем — сквозная тема этой книги, так что стоит вкратце изложить ее содержание. Итак, пока мы бодрствуем, работают обе системы — Система 1 и Система 2. Система 1 работает автоматически, а Система 2 находится в комфортном режиме минимальных усилий, иначе говоря, задействована лишь малая часть ее возможностей. Система 1 постоянно генерирует для Системы 2 предложения: впечатления, предчувствия, намерения и чувства. Если Система 2 их одобряет, то впечатления и предчувствия превращаются в убеждения, а импульсы — в намеренные действия. Когда все проходит гладко — а так случается почти всегда, — Система 2 принимает предложения Системы 1 совсем или почти без изменений. Как правило, вы верите своим впечатлениям и действуете согласно своим желаниям, и обычно это вполне приемлемо. Когда Система 1 сталкивается с трудностями, она обращается к Системе 2 для решения текущей проблемы с помощью более подробной и целенаправленной обработки. Систему 2 мобилизуют при возникновении вопроса, на который у Системы 1 нет ответа, как, вероятно, случилось с вами при виде примера на умножение 17 * 24. Осознанный прилив внимания также ощущается, если вас застали врасплох. Система 2 при ходит в действие, когда обнаруживается событие, нарушающее модель
окружающего мира в представлении Системы 1. В ее мире лампочки не подпрыгивают, кошки не лают, а гориллы не ходят по баскетбольным площадкам. Эксперимент с гориллой показывает, что для обнаружения неожиданных раздражителей требуется внимание. Удивление или неожиданность задействует и направляет ваше внимание: вы пристально вглядываетесь и пытаетесь найти в памяти объяснение удивительному событию. Система 2 отвечает за постоянный контроль вашего поведения — именно благодаря ему вы способны оставаться вежливым в ярости и внимательным, когда ведете машину ночью. Система 2 мобилизуется, если обнаруживает, что вы вот-вот совершите ошибку. Вспомните, как вы едва не выпалили что-то оскорбительное — и как трудно вам было взять себя в руки. В общем, основная часть того, что вы (ваша Система 2) думаете и делаете, порождается Системой 1, но в случае трудностей Система 2 перехватывает управление, и обычно последнее слово остается за ней. Разделение труда между Системой 1 и Системой 2 очень эффективно: оно дает наилучшую производительность при минимуме усилий. Большую часть времени все работает хорошо, потому что Система 1, как правило, отлично выполняет свои функции: формирует точные модели ситуаций и краткосрочные прогнозы, а также быстро и чаще всего уместно реагирует на возникающие задачи. Однако у Системы 1 есть и свои искажения, систематические ошибки, которые она склонна совершать в определенных обстоятельствах. Как будет показано, временами она отвечает не на заданные, а на более легкие вопросы и плохо разбирается в логике и статистике. Еще одно ограничение Системы 1 состоит в том, что ее нельзя отключить. Увидев на экране слово на знакомом языке, вы его прочитаете — если только ваше внимание не поглощено полностью чем-то другим[14]. Конфликт Рисунок 2 — вариант классического эксперимента, порождающего конфликт между двумя системами[15]. Попробуйте выполнить упражнение, прежде чем читать дальше.
Рис. 2 Вам почти наверняка удалось произнести правильные слова в обоих заданиях, и вы наверняка обнаружили, что в каждом из заданий были легкие и трудные части. Когда вы определяли крупный и мелкий шрифт, колонку слева было легко читать, а на колонке справа вы, возможно, стали читать медленнее и, вероятно, даже запинались. Когда вы называли расположение слов, левая колонка читалась труднее, а правая — намного легче. Для выполнения этих заданий вы задействуете Систему 2, поскольку обычно вы не говорите вслух «крупно/мелко» или «справа/слева», просматривая столбец слов. Среди прочего, во время подготовки к заданию вы настроили свою память на нужные слова («крупно» и «мелко» в первом задании). Когда вы просматривали первую колонку, определиться в выборе слов было нетрудно, а желание читать другие слова легко подавлялось. Со второй все получилось не так, потому что она содержала слова, на которые вы были настроены, и вы не могли их игнорировать. В основном вам удавалось отвечать правильно, но подавить противоречащий ответ было непросто, и вы из-за этого отвечали медленнее. Вы ощутили конфликт между задачей, которую намеревались выполнить, и автоматической реакцией, которая этому мешала. Конфликт между автоматической реакцией и намерением ее контролировать встречается в наших жизнях сплошь и рядом. Всем известно, как трудно не глазеть на странно одетую пару в ресторане или
концентрировать внимание на скучной книге, когда вдруг оказывается, что мы постоянно возвращаемся к месту, на котором текст превратился в бессмыслицу. Там, где зимы суровы, множество водителей помнят, как их заносило на льду и каких усилий им стоило следовать вбитым в голову инструкциям, которые противоречат естественной реакции: «Руль в сторону заноса, и не трогай тормоза!» Любому приходилось сдерживаться, чтобы не послать кого-то к черту. Одна из задач Системы 2 — преодолевать импульсы Системы 1. Иначе говоря, Система 2 отвечает за самоконтроль. Иллюзии Чтобы оценить, насколько автономна Система 1, а также осознать различие между впечатлениями и убеждениями, внимательно посмотрите на рисунок 3. В нем нет ничего особенного: две горизонтальные линии разной длины, к которым пририсованы стрелки, направленные в разные стороны. Линия снизу явно длиннее, чем та, что сверху. Именно это мы видим и, естественно, верим тому, что видим. Если вы ранее сталкивались с этим рисунком, вам известно, что это — знаменитая иллюзия Мюллера-Лайера. На самом деле линии совершенно одинаковы, в чем легко убедиться с помощью линейки. Рис. 3 Измерив линии, вы — ваша Система 2, то сознательное существо, которое вы называете «я», — обрели новое убеждение: вы знаете, что линии одной длины. Если вас об этом спросят, вы скажете то, что знаете. Но вы все равно видите, что линия внизу длиннее. Вы решили верить измерениям, но вы не можете остановить Систему 1. Вы не можете принять решение видеть линии одинаковыми, хотя вы знаете, что так оно и есть. Единственное, что можно сделать, чтобы противостоять иллюзии, — это научиться не доверять своим впечатлениям о длине линий, к которым
пририсованы стрелки. Чтобы воспользоваться этим правилом, необходимо научиться распознавать иллюзию и вспомнить, что вам о ней известно. Если это вам удастся, иллюзия Мюллера-Лайера вас никогда больше не обманет. Но вам все равно будет казаться, что одна линия длиннее другой. Не все иллюзии визуальные. Существуют так называемые когнитивные иллюзии. В аспирантуре я прослушал курс по техникам психотерапии. На одной из лекций преподаватель поделился с нами советом из клинического опыта: «Вам может попасться пациент, который поведает вам душераздирающую историю об ошибках, допущенных в его лечении, расскажет, что обращался к нескольким специалистам, однако ни один не смог ему помочь. Пациент весьма доходчиво опишет, как его не поняли предыдущие терапевты. Затем он заявит о своем искреннем убеждении, что вы — не такой. Вы почувствуете то же самое, придете к убеждению, что понимаете его и знаете, как ему помочь». Здесь мой преподаватель набрал в грудь побольше воздуха и громко заявил: «Даже и не думайте за него браться! Выгоните его из кабинета! Вероятнее всего, он — психопат, и вы ему не поможете!» Много лет спустя я узнал, что преподаватель предостерегал нас от психопатического обаяния[16], и ведущие специалисты в области психопатии подтвердили, что совет был правильный. Ситуация аналогична иллюзии Мюллера-Лайера. Нам не говорили, что мы должны чувствовать по отношению к этому пациенту. Наш преподаватель принял как данность то, что мы не сможем контролировать возникающее сочувствие к пациенту, оно будет порождено Системой 1. Более того, нам не говорили, что следует опасаться своих чувств в отношении пациентов. Нам сказали, что сильная симпатия к пациенту с долгой историей неудачного лечения — признак опасного заблуждения, как стрелки, пририсованные к параллельным линиям. Это — когнитивная иллюзия, а меня (Систему 2) научили ее узнавать и посоветовали ей не верить и не руководствоваться ею. Чаще всего спрашивают, можно ли преодолеть когнитивные иллюзии. Приведенные примеры ничего положительного в этом смысле не обещают. Поскольку Система 1 работает автоматически и не может быть отключена по желанию, ошибки интуитивного мышления трудно предотвратить. Предубеждений не всегда можно избежать, поскольку Система 2 может попросту не знать об ошибке. И даже если есть подсказки, избежать ошибок можно только в том случае, если Система 2 будет дополнительно следить за этим и прилагать усилия сверх обычного. Однако жить всю жизнь настороже не очень хорошо и уж точно непрактично. Постоянно сомневаться в собственных мыслях чрезвычайно утомительно, а Система 2
в силу своей медлительности и неэффективности не сможет заменить Систему 1 при принятии повседневных решений. Лучше всего пойти на компромисс: научиться распознавать ситуации, в которых возможны ошибки, и изо всех сил стараться избегать серьезных ошибок, если ставки высоки. Эта книга построена на допущении, что чужие ошибки легче узнать, чем свои. Полезные выдумки Вам предложили думать о двух системах как о двух субъектах, действующих внутри разума, у каждого из которых есть своя индивидуальность, способности и недостатки. Я буду часто говорить фразы, в которых системы выступают субъектами, например: «Система 2 решает примеры на умножение». Профессионалы считают использование подобных формулировок неприемлемым, поскольку создается впечатление, будто мысли и действия индивида объясняются мыслями и действиями крошечных человечков[17] у него в голове. С точки зрения грамматики фраза про Систему 2 похожа на фразу «Дворецкий крадет мелочь». Мои коллеги могли бы сказать, что действия дворецкого объясняют исчезновение денег, и они вполне правомерно сомневаются, что фраза о Системе 2 объясняет, как на самом деле решаются примеры на умножение. Я отвечаю на это так: краткое предложение в действительном залоге, относящее вычисления к действиям Системы 2, представляет собой не объяснение, а описание. Оно имеет смысл лишь из-за того, что вы уже знаете о Системе 2. Это сокращение для такой фразы: «Вычисления в уме — это произвольное действие, требующее усилий, плохо совмещающееся с поворотом налево и вызывающее расширение зрачков и учащение сердцебиения». Сходным образом утверждение «Управление машиной на шоссе в обычных условиях предоставлено Системе 1» означает, что машину на поворот мы направляем автоматически и почти без усилий. Также это подразумевает, что опытный водитель может ехать по пустой трассе и одновременно разговаривать. Наконец, фраза «Система 2 не дала Джеймсу сделать глупость в ответ на оскорбление» означает, что если бы способности Джеймса к осознанному контролю были нарушены (например, будь он пьян), то он отреагировал бы агрессивнее. Система 1 и Система 2 играют такую важную роль в истории, которую я рассказываю в этой книге, что я просто обязан еще раз подчеркнуть: они
— выдуманные персонажи. Это не системы в обычном смысле этого слова, не сущности с взаимодействующими частями или свойствами. Ни одна из них не обитает в определенной части мозга. Вы спросите: зачем в серьезной книге нужны выдуманные персонажи с неблагозвучными именами? Дело в том, что они полезны из-за некоторых особенностей наших с вами разумов. Предложение, описывающее действия субъекта (например, Системы 2), легче понять, чем то, которое описывает сущность или свойства чего-либо. Другими словами, лучше, когда у предложения подлежащее «Система 2», а не «вычисления в уме». Похоже, разум — в особенности Система 1 — прекрасно составляет и интерпретирует истории об активных субъектах, обладающих индивидуальностью, привычкам и и способностями. У вас быстро сложилось отрицательное мнение о вороватом дворецком, вы ждете от него плохого поведения и еще некоторое время будете его помнить. Я надеюсь, что с языком систем получится так же. Зачем было называть их «Система 1» и «Система 2», а не более описательно, например «автоматическая система» и «произвольная система»? Причина проста: «Система 1» звучит короче, чем «автоматическая система», а значит, занимает меньше места в оперативной памяти[18]. Это важно, поскольку все, что занимает место в оперативной памяти, уменьшает способность думать. Считайте «Систему 1» и «Систему 2» именами, вроде Боба и Джо, принадлежащими персонажам, с которыми вы познакомитесь по ходу этой книги. С выдуманными системами мне легче думать о суждениях и выборе, а вам легче понимать, что я говорю. Разговоры о Системе 1 и Системе 2 «У него сложилось впечатление, но некоторые из его впечатлений — иллюзии». «Это был в чистом виде ответ Системы 1. Она отреагировала на опасность раньше, чем ее осознала». «Это говорит твоя Система 1. Притормози и позволь Системе 2 взять все под контроль».
2 Внимание и усилия[19] Если вдруг (что маловероятно) по этой книге снимут фильм, то Система 2 будет второстепенным персонажем, который считает себя героем. Определяющая черта Системы 2 в этой истории — то, что ее действия сопряжены с усилиями, а одна из ее главных характеристик — леность, нежелание тратить силы больше необходимого. Так и получается, что те мысли и действия, которые Система 2 считает своими, часто порождаются главным героем нашей истории — Системой 1. Тем не менее существуют жизненно важные задачи, выполнять которые способна лишь Система 2, поскольку они требуют усилий и самоконтроля, подавляющих предчувствия и импульсы Системы 1. Умственные усилия Если вы хотите почувствовать работу Системы 2 на полную мощность, проделайте следующее упражнение, которое за 5 секунд выведет вас на пределы когнитивных возможностей. Для начала придумайте несколько комбинаций из четырех разных цифр и запишите каждую комбинацию на карточку. Сверху на стопку положите пустую карточку. Это упражнение называется «Плюс 1». Оно состоит в следующем. Начните отбивать постоянный ритм (а еще лучше установите метроном на 1 удар в секунду). Снимите пустую карточку с верха стопки и прочитайте вслух четыре цифры на следующей карточке. Переждите два удара и назовите последовательность, в которой каждая цифра будет больше на единицу. Если изначально на карточке написано 5294, то правильный ответ — 6305. Важно следить за ритмом. В задании «Плюс 1» мало кто справляется больше чем с четырьмя цифрами, но если вы хотите задачу посложнее, попробуйте «Плюс 3». Если вам интересно, как реагирует ваше тело, пока разум усердно трудится, установите на стол две стопки книг, на одну из них поставьте видеокамеру, на другую обопритесь подбородком, запустите съемку и смотрите в объектив, выполняя упражнения «Плюс 1» или «Плюс 3». После этого окажется, что изменение размера зрачков точно отражает,
насколько усердно вы трудились. У нас с «Плюс 1» долгая история. В начале карьеры я провел год по обмену в Мичиганском университете, в исследовательской лаборатории, где изучали гипноз. Во время поисков темы для исследования я обнаружил в Scientific American статью, где психолог Экхард Гесс описывал зрачок как окно в человеческую душу[20]. Недавно я ее перечитывал, и она вновь меня вдохновила. В начале статьи Гесс рассказывает, как его жена заметила, что у него расширяются зрачки, когда он разглядывает красивые фотографии природы. В конце статьи приведены две поразительные фотографии миловидной женщины, на одной из которых о на кажется гораздо красивее, чем на другой. Разница состоит лишь в том, что на более привлекательной фотографии зрачки у женщины расширенные, а на другой — суженные. Гесс пишет о белладонне, которую использовали для расширения зрачков в косметических целях, и о покупателях на базаре, надевающих темные очки, чтобы скрыть от торговцев свой интерес. Особенно интригующим я счел одно из наблюдений Гесса, а именно — его замечание, что зрачки являются прекрасным показателем умственных усилий. Зрачки расширяются, когда испытуемые перемножают двузначные числа, и чем сложнее задание, тем значительнее расширение. Наблюдения Гесса показали, что реакция на умственные усилия отличается от эмоционального возбуждения. Работа Гесса была мало связана с гипнозом, но я решил, что внешние признаки умственных усилий могут стать многообещающей темой для исследований. Джексон Битти, один из аспирантов лаборатории, тоже проникся энтузиазмом, и мы приступили к работе. Мы с Битти оборудовали нечто похожее на кабинет окулиста, где испытуемые устанавливали голову на упор для подбородка и лба и смотрели в камеру, слушая записанную информацию и отвечая на вопросы под мерный стук метронома. Каждую секунду по удару метронома производился фотоснимок с инфракрасной вспышкой. После каждой серии экспериментов мы бежали проявлять пленку, проецировали изображение зрачка на экран и приступали к работе с линейкой. Для нетерпеливых начинающих исследователей это был идеальный метод: мы почти сразу получали ясные и четкие результаты. Мы с Битти сосредоточились на заданиях вроде «Плюс 1», где в каждый момент времени точно знали, о чем думает испытуемый[21]. Мы записывали последовательности цифр в ритме метронома и просили участников эксперимента в том же темпе повторять или преобразовывать
цифры по одной. Вскоре обнаружилось, что размер зрачка менялся каждую секунду, в зависимости от количества усилий, потраченных на задание. График реакции выглядел как перевернутая буква «V». Если вы пробовали выполнить задания «Плюс 1» или «Плюс 3», то знаете, что напряжение нарастает с каждой услышанной цифрой, становится почти невыносимым, пока вы спешите сформировать измененную строку во время и сразу после паузы, и постепенно спадает по мере того, как вы «разгружаете» кратковременную память. Данные о размере зрачков в точности соответствовали субъективным ощущениям: более длинные цепочки цифр стабильно давали более сильное расширение, необходимость преобразования увеличивала напряжение, а наибольший размер зрачка приходился на пик усилий. Во время «Плюс 1» на комбинациях из четырех цифр зрачки увеличивались больше, чем когда требовалось запомнить и немедленно воспроизвести семь цифр. Задание «Плюс 3», выполнять которое гораздо труднее, вообще оказалось самым сложным из всех. В первые 5 секунд зрачок расширяется примерно на 50 % от начального размера, а сердцебиение учащается[22] на 7 ударов в минуту. С большей нагрузкой люди не работают — если требовать большего, то они просто сдаются. Когда мы предлагали участникам эксперимента больше цифр, чем они были способны запомнить, их зрачки переставали расширяться и даже сокращались. Мы несколько месяцев работали в просторном подвале, где была оборудована система камер слежения, транслировавшая на экран в коридоре изображение зрачка испытуемого и звук происходящего в лаборатории. Зрачок на экране выходил около фута в диаметре, и все посетители лаборатории с интересом наблюдали, как он расширяется и сокращается. Мы развлекались и одновременно удивляли гостей, угадывая, когда именно испытуемый прекратил выполнять задание. Во время умножения в уме зрачок за несколько секунд сильно расширялся и оставался таким, пока испытуемый работал над заданием. Как только находилось решение или задание бросали решать, зрачок немедленно сокращался. Мы наблюдали из коридора и время от времени удивляли и испытуемых, и наших гостей, спрашивая: «Почему вы сейчас перестали работать?» Часто в ответ мы слышали: «Как вы догадались?», а мы отвечали: «Мы заглядываем к вам в душу». Наблюдения из коридора часто давали не меньше информации, чем строгие эксперименты. Я сделал важное открытие, наблюдая за зрачком женщины в перерыве между двумя заданиями. Она беседовала с экспериментатором, а ее подбородок оставался на опоре, так что я видел ее
глаз. К моему удивлению, пока она говорила и слушала, ее зрачок заметно не расширялся. В отличие от наших заданий простой разговор, очевидно, требовал совсем мало усилий — не больше, чем нужно, чтобы запомнить две-три цифры. Именно в этот момент я сообразил, что мы выбрали для исследования исключительно трудоемкие задания. В голове у меня сложилась картинка: жизнь разума — а именно Системы 2 — обычно протекает в ритме неспешной прогулки, которая время от времени сменяется на бег трусцой, а иногда и на безумный спринт. «Плюс 1» и «Плюс 3» — это спринтерские забеги, а обычный разговор — прогулка. Мы обнаружили, что люди в состоянии умственного спринта могут стать почти слепы. Авторы «Невидимой гориллы» сделали гориллу «невидимой», заняв наблюдателей подсчетом передач. Мы писали о существенно менее драматичном примере слепоты во время «Плюс 1». Нашим испытуемым во время работы показывали серию быстро вспыхивающих букв[23]. Задание с цифрами оставалось приоритетным, но испытуемых также просили сказать в конце, появлялась ли буква «K» в процессе выполнения задания. Главным открытием оказалось то, что способность заметить появление нужной буквы и сообщить о нем менялась в течение 10 секунд упражнения. Наблюдатели почти никогда не пропускали букву «K», показанную в начале или в конце задания «Плюс 1», но почти в половине случаев во время наибольшего напряжения они ее не видели, хотя у нас были фотографии того, как их широко раскрытые глаза смотрят прямо на нее. График ошибок при обнаружении буквы выглядел точно такой же перевернутой буквой «V», как и график расширения зрачков. Это сходство вселяло надежды: зрачок оказался хорошим маркером физического возбуждения, сопровождающего умственные усилия, а значит, им можно было пользоваться в исследованиях работы разума. Зрачки выступают чем-то вроде электрического счетчика в квартире[24], показывая, насколько интенсивно вы в данный момент используете умственную энергию, причем сходство — не поверхностное. Вы используете электричество в зависимости от того, что вам нужно сделать: осветить комнату или приготовить тосты. Включенная лампочка или тостер потребляют необходимое им количество энергии, но не больше. Сходным образом мы решаем, что сделать, но у нас ограничен контроль над количеством потраченных на задание усилий. Скажем, вам показывают четыре цифры — например, 9462 — и говорят, что ваша жизнь зависит от того, удержите ли вы их в памяти в течение 10 секунд. Как бы вы ни
стремились жить, вы не сможете потратить на это задание столько же сил, сколько вам пришлось бы потратить на выполнение преобразования «Плюс 3» на этих же цифрах. И у Системы 2, и у электропроводки в вашем доме ограничены возможности, но они по-разному реагируют на перегрузку. При излишней нагрузке на сеть срабатывает предохранитель, одновременно выключающий все устройства. Реакция же на умственную перегрузку, напротив, точна и избирательна: Система 2 защищает самое важное задание, чтобы ему доставалось все необходимое внимание, а «запасные мощности» ежесекундно перераспределяются на другие задания. В нашем варианте эксперимента с гориллой мы велели испытуемым отдать предпочтение заданию с цифрами. Мы знаем, что они выполнили это указание, потому что одновременный показ букв не повлиял на исполнение основного задания. Если буква появлялась во время сильного умственного напряжения, испытуемые ее просто не видели, а когда преобразование требовало меньше усилий, букву замечали лучше. Сложное распределение внимания отточено долгой эволюцией. Быстрое ориентирование и реакция на самые серьезные угрозы или благоприятные возможности улучшает шансы на выживание, и эта способность определенно существует не только у людей. Даже у современного человека Система 1 в случае опасности перехватывает управление и направляет все ресурсы на действия для самозащиты. Представьте, что вы за рулем и машину внезапно заносит на скользкой дороге. Вы обнаружите, что отреагировали на угрозу раньше, чем полностью ее осознали. Мы с Битти работали вместе лишь год, но это сотрудничество сильно повлияло на наши дальнейшие карьеры. Он в итоге стал ведущим специалистом в области «когнитивной пупиллометрии», а я написал книгу «Внимание и усилия», которая во многом основывалась на наших совместных открытиях и дальнейших исследованиях, проведенных мною годом позже, в Гарварде. Измеряя зрачки во время исполнения различных заданий, мы много узнали о работающем разуме, который я сейчас называю Системой 2. По мере того как вы приобретаете новый навык, он требует все меньше энергии. Исследования показывают[25], что со временем при исполнении действия активизируется все меньше участков мозга. Сходное действие и у таланта. Люди с высоким интеллектом тратят меньше сил на решение заданий[26], на что указывает и размер зрачков, и активность
головного мозга. И к физическим, и к умственным усилиям применяется один и тот же «закон наименьшего напряжения[27]». Согласно ему, из нескольких вариантов достижения одной цели люди в конечном итоге всегда склоняются к наименее затратному. В экономике действия усилие — это затраты, а получение навыков уравновешивает соотношение затрат и выгод[28]. Лень — неотъемлемая часть нашей натуры. Наши задания влияли на зрачки очень по-разному. В исходном состоянии все испытуемые были бодры, активны и готовы к работе, вероятно, с несколько повышенным уровнем возбуждения и когнитивной готовности. Необходимость запомнить одну-две цифры или привязать к цифре слово (например, 3 = «дверь») давала кратковременное повышение уровня активности, но оно было совсем незначительным — всего 5 % от увеличения диаметра зрачка при «Плюс 3». Задание на различение высоты двух тонов заставляло зрачки расширяться гораздо сильнее. Недавние исследования показывают, что подавление желания читать отвлекающие слова[29] (как на рисунке 2 в предыдущей главе) также требует умеренных усилий. Для тестов кратковременной памяти с использованием шести-семи цифр необходимо больше усилий. Как вы сами знаете, просьба вспомнить и назвать номер телефона или день рождения супруга или супруги требует краткого, но существенного напряжения, поскольку при составлении ответа в памяти нужно удерживать всю комбинацию цифр. Возможности большинства людей почти исчерпываются перемножением в уме двузначных чисел и упражнением «Плюс 3». Почему же некоторые когнитивные операции требуют больше ресурсов, чем другие? Какие результаты мы покупаем за валюту внимания? Что может делать Система 2, чего не может делать Система 1? Теперь у нас есть предварительные ответы на эти вопросы. Усилие необходимо для того, чтобы одновременно удерживать в памяти несколько идей, требующих отдельных действий, или таких, которые надо сочетать по определенным правилам: к примеру, повторение про себя списка покупок на входе в супермаркет, выбор между мясом и рыбой в ресторане или сопоставление странного результата опроса с информацией о малом размере выборки. Лишь Система 2 может следовать правилам, сравнивать объекты по нескольким параметрам и сознательно выбирать варианты. У автоматической Системы 1 таких возможностей нет. Система 1 определяет простые соотношения («они похожи», «сын намного выше отца») и отлично собирает информацию об одном объекте, но не справляется с несколькими темами одновременно и не умеет использовать
чисто статистическую информацию. Система 1 определит, что человек, описанный как «тихий и аккуратный, обожающий детали, с любовью к порядку и систематизации», похож на карикатурного библиотекаря, но соединить это ощущение с фактом, что библиотекарей мало, может только Система 2 — разумеется, если она это умеет, что встречается редко. Важнейшая способность Системы 2 — умение принимать «установки на задание»: она может программировать память на следование инструкциям, не соответствующим привычной реакции. Рассмотрим такое задание: посчитайте, сколько раз на этой странице появилась буква «П». Раньше вы такое задание не выполняли, а значит, автоматически сделать его не сможете, но ваша Система 2 вполне справится. Вам потребуются некоторые усилия, чтобы настроиться на выполнение задания, а затем все сделать, но со временем оно станет даваться легче. Для описания процесса принятия и завершения установок на задание психологи ввели термин «исполнительный контроль», а нейробиологи определили основные участки мозга, отвечающие за исполнительные функции. Один из этих участков всегда задействован при разрешении конфликтов. Другой — передняя часть лобной коры, гораздо лучше развитая у человека в сравнении с приматами, — отвечает за операции, которые обычно связывают с интеллектом[30]. Теперь предположим, что в конце страницы вы получите задание посчитать все запятые на следующей странице. Это будет сложнее, поскольку вам придется преодолевать только что приобретенную склонность обращать внимание на букву «П». Одно из важных открытий, сделанных за последние десятилетия специалистами по когнитивной психологии, состоит в том, что переключение между заданиями требует усилий, особенно если это нужно сделать за ограниченное время[31]. «Плюс 3» и умножение в уме трудны именно потому, что требуют быстрого переключения. Для выполнения «Плюс 3» необходимо одновременно удерживать в памяти несколько цифр[32], связывая с каждой из них определенную операцию: некоторые цифры ждут своей очереди на преобразование, а уже преобразованные ждут очереди на озвучивание. Современные тесты рабочей памяти требуют, чтобы испытуемый постоянно переключался между двумя сложными заданиями, запоминая результаты одного на время выполнения второго. Те, кто хорошо справляются с этими тестам и, как правило, хорошо выполняют и тесты на общий интеллект[33]. Однако способность управлять вниманием — не просто мера интеллекта. Эффективность контроля внимания позволяет
оценивать различные аспекты деятельности авиадиспетчеров и пилотов израильских ВВС[34]. Спешка также требует дополнительных усилий. При выполнении упражнения «Плюс 3» вас заставляли торопиться, во-первых, метроном, а во-вторых, нагрузка на память. Вы, как жонглер с несколькими мячиками, не можете замедлить ход. Ритм задается скоростью угасания информации в памяти: вам приходится обновлять и повторять сведения, пока они не пропали. Торопиться заставляет любое задание, требующее удержания в памяти нескольких идей. Если только вам не посчастливилось заиметь рабочую память большого объема, работа будет напряженной до дискомфорта. Самые сложные формы медленного мышления — те, что заставляют вас думать быстро. Несомненно, во время «Плюс 3» вы заметили, что вашему разуму непривычно так напряженно работать. Даже если вы занимаетесь умственным трудом, мало какие из задач в течение рабочего дня требуют столько усилий, как «Плюс 3» или запоминание шести цифр для немедленного воспроизведения. Как правило, мы избегаем умственных перегрузок и разделяем задания на множество легких шагов, занося промежуточные результаты в долговременную память или на бумагу, а не в легко перегружаемую рабочую память. Мы преодолеваем большие расстояния не торопясь и ведем свою умственную жизнь по закону наименьшего напряжения. Разговоры о внимании и усилиях «Я не буду решать эту задачу за рулем. От нее расширяются зрачки. Она требует умственных усилий!» «Здесь действует закон наименьшего напряжения. Он будет думать как можно меньше». «Она не забыла про собрание. Когда его назначали, она была поглощена чем-то другим и просто вас не услышала». «Первым дел ом мне в голову пришел интуитивный ответ Системы 1. Нужно попробовать поискать информацию в памяти осознанно».
3 Ленивый контролер Каждый год я провожу несколько месяцев в Беркли. Одно из величайших удовольствий для меня — ежедневная четырехмильная прогулка по тропе среди холмов, с прекрасным видом на залив Сан- Франциско. Я обычно слежу за временем и, таким образом, много чего узнал об усилиях. Я нашел скорость — примерно 17 минут на милю, — которую воспринимаю как прогулочную. Безусловно, таким образом я трачу физические силы и сжигаю больше калорий, чем сидя в кресле, но не чувствую напряжения, противоречия или необходимости стараться делать больше. Гуляя на этой скорости, я могу думать и работать. Вдобавок, по- моему, легкая физическая активность прогулки повышает и активность разума. У Системы 2 тоже есть природная скорость. Некоторое количество энергии тратится на случайные мысли и отслеживание происходящего вокруг, даже если мозг ничем не занят. Усилия для наблюдения требуются только в том случае, когда ситуация вынуждает к необычной настороженности или внимательности. Множество незначительных решений принимается при вождении, чтении газеты, привычном обмене любезностями с супругом или коллегой, и все это — с минимумом усилий и без напряжения. Как на прогулке. Обычно идти и одновременно думать — легко и приятно, но в экстремальных ситуациях эти действия, похоже, соперничают за ограниченные ресурсы Системы 2. Это подтверждается простым экспериментом. Гуляя с другом, попросите его немедленно вычислить в уме произведение 23 78. Он почти наверняка остановится. Лично я во время прогулки могу думать, но не могу выполнять умственную работу, которая сильно нагружает кратковременную память. Если мне нужно построить сложную цепочку аргументов за ограниченное время, я предпочту не двигаться и при этом сидеть, а не стоять. Безусловно, не всякое медленное мышление требует такой интенсивной сосредоточенности и напряженных вычислений — лучше всего мне размышлялось во время неторопливых прогулок с Амосом. Если я иду быстрее, чем прогулочным шагом, ощущения от ходьбы совершенно меняются, поскольку переход на более быстрый темп сильно
Подборка по базе: быстро медленно 2кл.docx, Презентация Даниэль_Вазоме.pptx, Даниэля Канемана «Думай медленно… Решай быстро».pptx, Думай медленно, решай быстро. .pdf, Каспарьян Даниэль стомат.303.docx
Коррекция интуитивных предсказаний
Вернемся к Джули, нашей одаренной читательнице. Метод правильного предсказания ее среднего балла описан в предыдущей главе. Как и ранее – для гольфа несколько дней подряд или для веса и игры на пианино, – я приведу схематическую формулу для факторов, определяющих оценку навыков чтения и оценки в колледже:
оценка навыков чтения = общие факторы + факторы, важные для оценки навыков чтения = 100%
средний балл = общие факторы + факторы, важные для среднего балла = 100%
К общим факторам относятся генетические способности, то, насколько семья поддерживает интерес к учебе, и все то, из-за чего одни и те же люди в детстве рано начинают читать, а в юности успешно учатся. Конечно, есть множество факторов, которые повлияют только на одно из этих событий: возможно, слишком требовательные родители научили Джули читать в раннем воз расте, или ее оценки в колледже пострадали из-за несчастной любви, или подростком, катаясь на лыжах, она получила травму, вызвавшую задержку в развитии, и так далее.
Вспомните, что корреляция между двумя величинами – в данном случае между оценкой навыков чтения и средним баллом – равна доле совпадающих определяющих факторов в их общем числе. По-вашему, как велика эта доля? По моим самым оптимистичным оценкам – примерно 30 %. Если взять за основу эту цифру, то мы получим все исходные данные для того, чтобы сделать неискаженное предсказание, производя следующие четыре действия:
1. Начните с оценки типичного среднего балла.
2. Определите средний балл, соответствующий вашим впечатлениям от имеющихся сведений.
3. Оцените корреляцию между вашими данными и средним баллом.
4. Если корреляция составляет 0,30, переместитесь от типичного среднего балла на 30 % расстояния в сторону сре днего балла, соответствующего впечатлениям.
Первый пункт дает вам точку отсчета, средний балл, который вы предсказали бы для Джули, если бы ничего о ней не знали. В отсутствие информации вы бы предсказали типичный средний балл. (Это похоже на то, как без других данных о Томе В. ему приписывают априорную вероятность студента по специальности «управление бизнесом».) Второй пункт – интуитивное предсказание, соответствующее вашей оценке данных. Третий пункт перемещает вас от точки отсчета в сторону интуиции на расстояние, зависящее от вашей оценки корреляции. В четвертом пункте вы получаете предсказание, учитывающее вашу интуицию, но гораздо более умеренное.
Это – общий подход, который можно применять при любой необходимости прогнозировать количественную переменную: например, средний балл, или доход от инвестиций, или рост компании. Он основывается на интуиции, но умеряет ее, сдвигает к среднему. Если существует веская причина доверять точнос ти интуитивных предсказаний (то есть сильная корреляция между предсказанием и данными), такая поправка будет небольшой.
Интуитивные прогнозы необходимо корректировать, поскольку они нерегрессивны, а потому искажены. Предположим, я предскажу, что у каждого гольфиста на второй день турнира будет то же число очков, что и в первый. Эта оценка не учитывает регрессию к среднему: те, кто в первый день играл хорошо, в среднем на следующий день справятся хуже, а те, кто играл плохо, в основном станут играть лучше. Нерегрессивные предсказания всегда будут искаженными в сравнении с реальными результатами. В среднем они слишком оптимистичны для тех, кто хорошо играл вначале, и слишком мрачны для тех, кто плохо стартовал. Экстремальность прогноза соответствует экстремальности данных. Сходным образом, если использовать детские успехи для предсказания оценок в колледже без регрессии к среднему, то юношеские достижения ранних чтецов разочаровывают, а успехи тех, кто стал читать о тносительно поздно, приятно удивляют. Скорректированные интуитивные предсказания избавляются от этих искажений, так что и высокие, и низкие прогнозы примерно одинаково переоценивают и недооценивают истинное значение. Разумеется, даже неискаженные предсказания бывают ошибочны, но в таких случаях ошибки меньше и не склоняются в сторону завышенного или заниженного результата.
Защита экстремальных предсказаний?
Ранее мы познакомились с Томом В. для иллюстрации предсказаний дискретных результатов, например области специализации или успеха на экзамене, которые выражаются присвоением вероятности определенному событию (или, в случае с Томом, расположением результатов от наиболее до наименее вероятного). Я также описал процесс противодействия распространенным искажениям дискретных предсказаний: пренебрежению априорными вероятностями и нечувствительности к качеству информации.
Искажения в прогнозах, выражающихся в шкале, как, например, средний балл или доход фирмы, сходны с искажениями, наблюдающимися при оценке вероятностей исходов.
Процедуры коррекции также схожи:
• Обе содержат исходное предсказание, которое бы вы сделали при отсутствии информации. В случае с категориями это были априорные вероятности, в случае с цифрами – средний результат в соответствующей категории.
• Обе оценки содержат интуитивное предсказание, выражающее пришедшее в голову число, независимо от того, вероятность это или средний балл.
• В обоих случаях ваша цель – дать прогноз, находящийся посередине между исходным предсказанием и вашим интуитивным ответом.
• В случае, когда нет никаких данных, вы придерживаетесь исходного прогноза.
• В другом крайнем случае вы придерживаетесь своего интуитивного прогноза. Разумеется, это произойдет, если вы останетесь в нем уверены, критически пересмотре в данные в его пользу.
• Чаще всего вы найдете причины сомневаться в существовании идеальной корреляции между истиной и вашим интуитивным прогнозом и в итоге окажетесь где-то посередине.
Эта процедура – аппроксимация вероятных результатов надлежащего статистического анализа. В случае успеха она приведет вас к неискаженным прогнозам, разумным оценкам вероятности и умеренным предсказаниям численных результатов. Обе процедуры направлены на устранение одного и того же искажения: интуитивные прогнозы, как правило, отличаются чрезмерной уверенностью и экстремальностью.
Коррекция интуитивных предсказаний – задача для Системы 2. Для поиска соответствующей референтной категории, а также для оценки исходного прогноза и качества данных требуются значительные усилия. Они оправданы лишь в случае, когда ставки высоки, а вы усиленно стремитесь не допустить ошибки. Более того, необходимо помнить, что коррекция предсказаний может осложнить вам жизнь. Неискаженные прогнозы отличаются тем, что позволяют предсказывать редкие или экстремальные события лишь при наличии очень хорошей информации. Если вы ждете от своих предсказаний умеренной надежности, вы никогда не угадаете редкий или далекий от среднего результат. Если вы даете неискаженные прогнозы, вам никогда не испытать удовольствия правильно назвать редкий случай. Вы никогда не сможете сказать: «Я так и думал!», когда ваш студент-юрист станет верховным судьей или когда новая компания, казавшаяся вам очень перспективной, в итоге добьется огромного коммерческого успеха. С учетом ограничений данных вы никогда не предскажете, что способный старшеклассник будет учиться на «отлично» в Принстоне. По тем же причинам венчурному капиталисту никогда не скажут, что в начале развития у новой компании «очень высокая» вероятность успеха.
Возражения относительно принципа смягчения интуитивных прогнозов следует воспринимать всерьез, потому что отсутствие искажений – не всегда важнее всего. Неискаженные прогнозы предпочтительны, если все ошибки равнозначны, независимо от их направления. Однако встречаются ситуации, в которых один тип ошибок намного хуже другого. Когда венчурный капиталист ищет новый проект, риск упустить новый Google или Facebook намного важнее, чем риск вложить скромную сумму в заурядную новую компанию. Цель венчурных капиталистов – выявить особые случаи, даже если из-за этого они переоценят перспективы многих других предприятий. Для консервативного банкира, дающего большие займы, риск банкротства одного заемщика может перевесить риск отказа нескольким потенциальным клиентам, которые выполнили бы свои обязательства. В таких случаях использование категоричных выражений («отличные перспективы», «серьезный риск неплатежеспособности») может быть оправдано ради успокоения, даже если информац ия, на которой они основаны, всего лишь умеренно надежна.
Для разумного человека неискаженные умеренные предсказания не представляют проблемы. В конце концов, разумные венчурные капиталисты знают, что даже у самых многообещающих новых компаний шансы на успех весьма ограничены. Их работа – выбрать лучшие из имеющихся, и они не чувствуют потребности обманывать себя относительно перспектив проекта, в который собираются вложить деньги. Соответственно, рациональные индивиды, предсказывающие доход фирмы, не будут привязываться к одному числу, а рассмотрят диапазон неопределенности вокруг самого вероятного результата. Разумный человек, оценив предприятие, которое, скорее всего, потерпит неудачу, может вложить в него крупную сумму, если награда за успех будет достаточно велика, – но при этом не будет питать иллюзий насчет шансов на подобный исход. Однако не все мы рациональны, и многим необходимо ощущать себя защищенными от искаженных оценок, иначе способность принимать р ешения будет парализована. Если вы решите обманывать себя, принимая экстремальные прогнозы, не забывайте о том, что вы потакаете собственным желаниям.
Мои корректирующие процедуры ценны тем, что заставляют думать об объеме известной вам информации. Рассмотрим следующий, распространенный в научном мире пример, вызывающий прямые аналогии с другими сферами жизни: факультет собирается нанять молодого преподавателя и хочет выбрать кандидата с наилучшим потенциалом для научной работы. Выбор свелся к двоим.
Ким недавно закончила дипломный проект. У нее отличные рекомендации, она замечательно выступила и произвела на всех прекрасное впечатление во время собеседований. Серьезной истории научных исследований у нее нет.
Джейн последние три года занимала должность постдокторанта. Она очень эффективно работала, провела множество исследований, но доклад и собеседования были не такими яркими, как у Ким.
Интуитивно хочется выбрать Ким, потому что она произвела более сильное впечатление, а что ты видишь, то и есть. Однако информации о Ким гораздо меньше, чем о Джейн. Мы вернулись к закону малых чисел. По сути, выборка информации о Ким меньше, чем о Джейн, а в маленьких выборках намного чаще наблюдаются экстремальные результаты. В них бо́льшую роль играет удача, а значит, предсказания результатов Ким необходимо сильнее сместить к среднему. Допустив, что Ким регрессирует сильнее, чем Джейн, вполне можно выбрать Джейн, хотя она произвела на вас более слабое впечатление. Делая выбор в научной среде, я бы голосовал за Джейн, хотя и приложил бы некоторые усилия для преодоления интуитивного впечатления о большей перспективности Ким. Следовать предчувствиям естественнее и приятнее, чем действовать вопреки им.
Легко представить себе похожие проблемы в других ситуациях, например, когда венчурному капиталисту необходимо выбрать, в какую из двух новых компаний, работающ их на разных рынках, вложить деньги. У одной компании есть продукт, спрос на который можно довольно точно оценить. Другая фирма привлекательна и – с точки зрения интуиции – кажется многообещающей, но ее перспективы менее надежны. Следует задуматься о том, сохранит ли прогноз возможностей второй компании свою бо́льшую привлекательность после учета неопределенности.