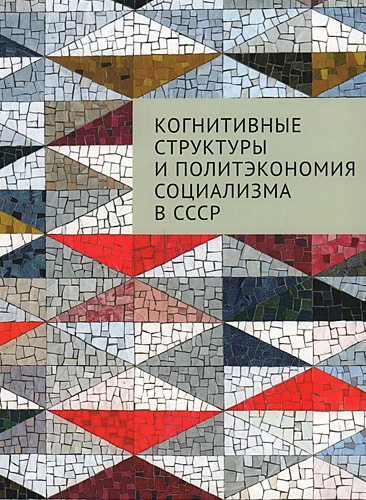Ошибки экономистов часто возникают из-за того, что они не учитывают важных ограничений, существующих в развивающихся экономиках, и используют стандартные модели, подходящие для развитых стран, где таких ограничений давно нет. Вместо таких моделей экономисту нужно использовать те, которые учитывают специфику и дополнительные ограничения, свойственные той или иной развивающейся стране. Но это требует сбора информации о странах, тесных контактов с местными экспертами и выявления наиболее удушающих экономику ограничений. А на это, увы, у экономистов часто нет ни времени, ни терпения
Почему многие реформы, которые разрабатывают и предлагают экономисты, не оправдывают возложенных на них надежд? Действительно ли дело только в том, что политики пренебрегают многими рекомендациями реформаторов? Увы, часто ответы на эти вопросы оказываются не в пользу экономистов.
В сфере экономического развития нетрудно вспомнить примеры, как экономисты давали не самые действенные рекомендации политикам, проводящим реформы. Например, в середине ХХ века основным стимулом для экономического роста считалось накопление капитального оборудования. Индустриализация, строительство крупных промышленных предприятий представлялись ключевыми ингредиентами роста, по крайней мере на его начальных этапах. Этот рецепт стали применять почти повсеместно, но ожидаемые результаты он принес лишь в небольшом числе случаев.
В 1980-х годах воцарилась другая мода: главным барьером для развития отстающих стран объявили чрезмерное вмешательство в экономику государства, под чьим руководством, как правило, и проводилась индустриализация. Поэтому рецептом для ускорения роста выбрали приватизацию. Но и она не оправдала надежд. И эти два примера – лишь малая часть неудач экономистов в сфере роста и развития.
В поисках универсальности
Главная причина этих неудач в том, что проблемы развивающихся экономик чрезвычайно разнообразны. Это и нехватка инфраструктуры, и слабая защита прав собственности, и отсутствие технологий, и неразвитость финансовых рынков, и слабая трудовая этика, и многое другое. Одно накопление капитальных активов или сокращение доли государства в экономике не может компенсировать сразу их все. Экономисту нужно выявить наиболее удушающие ограничения и разработать модель для их ослабления.
Однако экономисты часто плохо знают специфику развивающихся стран, уделяют мало внимания диагностике их проблем и потому слабо представляют, какая именно модель лучше всего подходит для рассматриваемой страны. Кроме того, экономисты нередко пытаются найти «ту самую единственную модель», которая подойдет для любой страны и объяснит все сложные социальные явления.
Универсальные закономерности в экономике действительно существуют. «Люди реагируют на стимулы», – как справедливо учит чикагская школа. «Институты важны для экономического роста», – как утверждают последователи лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта. Но в конкретной стране на конкретном этапе ее развития ключевую проблему могут создавать отнюдь не стимулы и не институты.
Так ли плохи институты в современной Грузии или Чили? Стоит ли продолжать бросать основные ресурсы на дальнейшее усиление защиты прав собственности в этих странах? Такое решение кажется сомнительным. Скорее в Грузии и Чили не хватает ноу-хау и человеческого капитала, необходимых для создания новых экспортных секторов. Для этих стран «та самая единственная модель», например, подчеркивающая важность институтов, скорее всего, не будет полезной. Им нужнее модели, учитывающие их особенности и слабые стороны.
Таким образом, экономика развития скорее представляет собой библиотеку моделей, где не так много тех, что объясняют универсальные механизмы и закономерности. И очень важно уметь выбрать из этой библиотеки модель, подходящую для анализа той или иной ситуации. Именно с последней задачей экономисты справляются не очень хорошо, часто прибегая к моделям, более подходящим для анализа проблем развитых стран. Об этом подробно пишет в своей книге Дени Родрик из Гарвардской школы управления имени Кеннеди. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих возможные ошибки экономистов.
Двусмысленные стимулы
Российская экономика давно страдает от низкой производительности труда в государственном секторе. Многие сотрудники проводят заметную часть времени за пустыми разговорами, за чашкой кофе и прочими посторонними делами, не стремятся получить даже сравнительно простые технические навыки. При этом организовать непрерывное наблюдение за ними невозможно, ведь их начальники должны выполнять не только административную работу, но и заниматься своими профессиональными обязанностями: делать хирургические операции, вести уроки, разыскивать преступников, оценивать бизнес-проекты и прочее.
В качестве выхода из такой ситуации экономист, скорее всего, предложит поставить размер зарплаты сотрудников в зависимость от результатов их работы. Если сотрудник справляется и вовремя выполняет задания, то его зарплата будет высокая, а если отлынивает – низкая.
Именно такой инструмент для мотивации сотрудников и был некоторое время назад предложен российским управленцам в госсекторе. Они получили возможность менять уровень зарплаты подчиненных за счет стимулирующих надбавок, а роль фиксированного оклада стала значительно меньше. К каким результатам привело это преобразование? Повысило производительность труда? Далеко не всегда.
Выяснилось, что результаты внедрения такой системы сильно зависят от того, какие задачи решает сам управленец. Если он максимизирует прибыль или результат деятельности своей организации, то, скорее всего, действительно будет заниматься ее развитием и стараться платить подчиненным в зависимости от их вклада в общее дело.
Однако в госсекторе управленец может стремиться не к прибыли, а к максимизации своей доли в бюджете организации. И право устанавливать зарплату будет как нельзя лучше служить этой цели. Управленец установит высокую зарплату себе и своему окружению, а обычные сотрудники будут получать на порядки меньше. В результате вместо решения проблемы производительности труда создается корпоративное неравенство. Причем это неравенство нередко формируется не между менее и более производительными сотрудниками, а между менее и более высокими рангами в административной иерархии.
В этом примере при разработке реформы системы оплаты труда следовало принять во внимание возможную коррумпированность менеджмента и рекомендовать установить соотношение максимальной и минимальной зарплаты, чтобы не позволить директорам забирать себе значительную часть бюджета управляемой ими организации. Но чтобы прийти к такой рекомендации, необходимо знать особенности рассматриваемой экономики.
Индивидуальные ограничения
Другой типичный пример. Экономисты нередко рекомендуют развивающейся стране отказаться от стимулирующей денежно-кредитной политики, объясняя это низким уровнем безработицы. И действительно, при низком уровне безработицы добиться роста ВВП с помощью мягкой денежно-кредитной политики почти невозможно. Ведь низкая безработица указывает на то, что вся рабочая сила занята, а производственные мощности загружены.
Однако эта закономерность основана на том, как измеряют безработицу в развитых странах, где потерявшим работу людям есть смысл регистрироваться в качестве безработного благодаря приличным пособиям и другим социальным благам. В развивающихся странах пособия по безработице или вовсе нет, или его размер слишком мал, чтобы возиться с регистрацией. Поэтому судить об ожидаемой эффективности денежно-кредитной политики по числу официально зарегистрированных безработных в развивающейся экономике ошибочно.
С другой стороны, в развивающихся странах эффективность стимулирующей кредитно-денежной политики могут снижать совсем другие, не связанные с безработицей факторы. Например, в российской государственно-монополистической экономике дешевые кредиты часто используются крупными компаниями для покупки других компаний, то есть для строительства корпоративных империй. Поэтому вполне возможно, что в таких условиях повышение доступности кредитов приведет к росту уровня монополизации экономики.
Можно упомянуть и другие аргументы за и против использования стимулирующей денежно-кредитной политики, но вряд ли для развивающихся экономик надежными аргументами могут быть те, которые базируются на моделях, разработанных для анализа развитых стран.
Теперь представим, что власти планируют уменьшить долю государства в экономике с помощью приватизации. Наконец-то неэффективные менеджеры перестанут получать финансовую поддержку от государства и будут уволены эффективными частными собственниками, фирмы станут лучше управляться, больше инвестировать в развитие и приносить больше прибыли.
Увы, в таких результатах нет никакой уверенности, если права собственности в экономике недостаточно защищены. Приватизированные компании в ней достанутся самым сильным, а не самым эффективным. Мало того, вполне возможно, что они достанутся тем же самым неэффективным государственным менеджерам, вошедшим в сговор с криминальными группами или бюрократией.
Именно приватизация была одним их рецептов вашингтонского консенсуса – политики, широко применявшейся в 1980–1990-е годы для ускорения экономического роста в развивающихся и переходных экономиках. Но результаты этой политики, которую особенно активно применяли в Латинской Америке и бывших соцстранах, оказались не особенно впечатляющими. Такой итог вовсе не означает, что приватизация в развивающейся экономике не нужна. Но от нее не стоит ждать прорыва, если одновременно не будут лучше защищены права собственности.
В этих примерах ошибки экономистов заключались в том, что они не учитывали важные ограничения, существующие в развивающихся экономиках, и использовали стандартные модели, подходящие для развитых стран, где таких ограничений давно нет. В Канаде или Нидерландах менеджеры лучше мотивированы работать в интересах возглавляемых организаций, потерявшие работу люди регистрируются в качестве безработных, а права собственности надежно защищены.
Вместо таких моделей экономисту нужно использовать те, которые учитывают специфику, дополнительные ограничения, свойственные той или иной развивающейся стране. Выбор таких моделей часто требует сбора информации об интересующих экономистов странах, установления интенсивных контактов с местными экспертами, а также выявления наиболее удушающих экономику ограничений. Но на это, увы, у экономистов часто нет ни времени, ни терпения.
следующего автора:
Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.
15 мая 2023
В чем виноваты экономисты
Статья публикуется одновременно в журналах «Эксперт» и «Стимул».
Кризис, в который погрузилась советская экономика к концу существования Советского Союза, и крах самого СССР до сих пор по-настоящему убедительно не объяснены. Но, как заметил соавтор монографии, о которой мы рассказываем, и ее редактор, доктор экономических наук, заведующий сектором философии и методологии экономической науки Института экономики РАН Петр Ореховский в интервью нашему журналу, сравнивая катастрофу в Чернобыле и крах Союза, «понятно, что если Чернобыль взорвался, то физики виноваты; понятно, что если экономика рухнула, то виноваты экономисты. Но если Легасов покончил жизнь самоубийством, то я что-то не припомню ни одного экономиста, чтобы он хотя бы сказал: “Я ошибался, и из-за меня тут…”».
И основная идея книги, как пояснил Ореховский, состоит в том, что «как мы думаем, так мы и живем. История Советского Союза, по-моему, это подтверждает. И есть масса всяких подтверждений этого подхода, которые мы рассматриваем в нашей книге. Известна теорема Томаса, известного социолога: неважно, являются ли основания некого размышления реальными или фантастическими, главное, что социальные последствия того, что мы думаем, будут абсолютно реальны. То есть неважно, существует Змей Горыныч или нет, но, если люди считают, что он существует, они будут принимать меры пожарной безопасности, еще что-то для защиты от него». А вина советских экономистов состоит в том, что они не смогли создать экономической теории, адекватной советской плановой экономике, а то, что они предлагали в качестве решений ее проблем, только усугубляло кризис.
Проблемы социализма и его теории
Именно эта идея отражена и в названии книги, ведь когнитивные структуры — это «структуры мышления, которые формируются в тех или иных социальных группах, которые определяют, как думают их члены. Близкое философское понятие — парадигма. Есть другое понятие, тоже родственное, — эпистема, то, как думает общество в целом, причем на протяжении весьма-весьма длительного периода». И пока социальная группа находится в рамках старых когнитивных структур, ее коллективное мышление определяется уже сложившимися идеями, преодолеть которые могут только революционные потрясения.
Это оказалось характерно и для советского экономического сообщества. Последовательность таких переходов авторы называют циклами когнитивности, сравнивая идею таких циклов с идеями Томаса Куна, изложенными в его книге «Структура научных революций», где он описывает смену научных парадигм, связанных с научно-техническими революциями, в сознании научных сообществ. Разница заключается в том, что сообщества ученых-естественников достаточно закрыты для внешних влияний, а на то, как «экономисты понимают экономику, влияют политические события, открытия в точных и естественных науках. Свой вклад вносит и культура, в том числе и историческая политика», а изменения в представлениях о реальности, которые случаются в умах экономического сообщества, приводят к ее, реальности, изменению. А советские экономисты жили в определенном смысле в выдуманной реальности и так и не смогли из нее вырваться. В частности, как отмечают авторы, «советская политэкономия исключила важнейший необходимый элемент развития любой научной дисциплины — возможность критики и уточнения положений предшественников». В первую очередь Маркса и Ленина, которые, конечно, не могли представить, какой характер примет экономика в государстве, объявленном социалистическим. И их отдельные замечания по этому поводу не могли помочь в осознании реалий «реального» социализма.
Об этом, как показано в книге, говорят, в частности, дискуссии, которые велись в советской экономической науке (они подробно описаны в монографии) и советские учебники политэкономии. Например, дискуссия о характере общественной собственности в социалистической экономике и связанные с ней проблема отчуждения и характер способа производства. Как пишут авторы, «следует признать, что экономистам-теоретикам, работавшим в рамках марксистской традиции, так и не удалось решить главные задачи — определить природу общественной собственности при социализме и сколько-нибудь удовлетворительно описать социалистические производственные отношения». Так же как и представителям других экономических школ, которые стали появляться в советской экономической науке, особенно со времен оттепели. В частности, условным либералам, которые пытались применить к советской экономике теории, почерпнутые из различных западных учебников Economics. Но и те и другие удивительным образом не отдавали себе отчет в том, что советская экономика — это особый феномен, для объяснения которого требуется своя теория. В частности, это проявлялось в поисках ответа на вопрос, что такое стоимость при социализме. Одни искали ответ на него в трудовой теории стоимости, другие — в теории предельной полезности. В конце концов все свелось к определению цен по затратам, но вряд ли указанные теории объясняли этот подход.

Доктор экономических наук, заведующий сектором философии и методологии экономической науки Института экономики РАН Петр Ореховский
Что касается отчуждения, то претензии на социалистический характер производства в СССР требовали отрицания отчуждения работника от продуктов своего труда, которое, собственно, и является олицетворением социального угнетения. Но это отрицание настолько противоречило реальности, что заводило в тупик и советскую политэкономию, и советскую философию, хотя попытки вырваться из него постоянно предпринимались, например, известным философом и, по определению авторов, романтиком социализма Эвальдом Ильенковым. Причем в этот теоретический тупик, по мнению авторов, попали не только советские теоретики, но и все мировое левое движение, которое до определенного времени во многом находилось под влиянием романтических представлений о характере советского социализма. Вот почему «победа неолиберализма в 1970-х гг., как ни странно, была во многом обусловлена кризисом левого мировоззрения — романтика исчерпывала себя. В то время вряд ли кто-то мог предвидеть будущие успехи “китайского пути”. Впрочем, и последний не снимает, а скорее игнорирует проблему “отчуждения”, да и реформы Дэн Сяопина никак нельзя причислить к романтическим». При этом, как отмечают авторы, «стоит оговориться, что крах советского социализма отнюдь не означает банкротства социалистической, а тем более левой общественной мысли», которой теперь приходится искать новые пути развития.
Вина советских экономистов состоит в том, что они не смогли создать экономической теории, адекватной советской плановой экономике, а то, что они предлагали в качестве решений ее проблем, только усугубляло кризис
Что касается характеристики социалистического способа производства, то показательна возникшая еще в 1920-е годы и продолженная во время оттепели дискуссия об азиатском способе производства (АСП), о котором как-то обмолвился Маркс, так и не расшифровав до конца, что он имеет в виду. Но общепринятым является определение АСП, как способа производства «с неразделенными властью-собственностью. Или как общественное устройство с относительно передовой техникой, но с отсталыми институтами (или, если угодно, “производственными отношениями”)».
Это открыло путь к многочисленным толкованиям этого понятия как в СССР, так и на Западе. В ходе этой дискуссии некоторые ее участники фактически проводили параллель между АСП и реальным социализмом, по крайней мере в части такой его характеристики, как неразделенные власть и собственность. Как отмечают авторы, признание определенного сходства АСП и социализма поставило вопрос, в отношении которого российские экономисты, философы и обществоведы так и не пришли к согласию до сих пор. «Что представлял собой советский социализм? Это был “государственный капитализм” или общество будущего? Тоталитарное общество или напротив — общество, гарантировавшее социальную защиту и возможности реализовать свои творческие возможности каждому гражданину?» Наконец, что такое собственно социализм в идеале, что такое реальный социализм и их соотношение.
Авторы, в частности, напоминают о противоречивых определениях социализма, которые дал ему один из его основоположников — В. И. Ленин. С одной стороны, он определял этот строй как «государственно-капиталистическую монополию, обращенную на пользу всего народа». То есть «один из главных интерпретаторов марксизма понимал социализм как определенную форму капитализма». С другой стороны, известно его же знаменитое определение, что «“коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны”, ставящее во главу угла определенную технологию получения энергии и парламентский тип власти, основанный на “негативном” типе социального ценза, исключающем выходцев из первого, второго, а частично и третьего сословия».
В условиях достаточно жесткого идеологического контроля такие противоречия у классиков требовали от политэкономов и философов определенного искусства интерпретации, хотя дискуссия об АСП показывает, что возможности обсуждения этих проблем все же были.
Экономический алармизм
Все эти теоретические и практические проблемы социализма привели к тому, что, как отмечают авторы, в экономической теории начиная с 1960-х годов стал преобладать алармизм в оценке перспектив социалистической экономики. А в 1980 е годы и вплоть до 1991-го возобладали уже предсказания неизбежного краха. Конечно, как отмечают авторы, основания для такого алармизма были, они основывались на реальных проблемах советской экономики, однако проблемы есть у всех стран, но далеко не во всех они приводят к алармизму в оценках перспектив развития этих стран их экономической общественностью. У нас же, по мнению авторов, алармизм стал свидетельством распада прежней когнитивной структуры, который резко ускорился во второй половине 1980-х. Оказалось, что в рамках когнитивных представлений советских экономистов невозможно решить сложнейшие теоретические задачи социалистического строительства.
По мнению авторов, главной причиной алармистских прогнозов было противоречие, которое возникло между представлением, что СССР — это первое общество, основанное «на научных принципах» (его появление на свет считалось эмпирическим подтверждением марксизма), и тем, что «после романтического периода 1950‒1960-х гг. наступивший когнитивный застой в политэкономии социализма постепенно привел к глубоким сомнениям в верности самих этих принципов, в способности советской науки решить проблемы, встававшие перед советским обществом». В частности «в 1970-е гг. формируется крайне скептическое отношение к советским инженерным и технологическим школам, к возможностям создать отечественные образцы техники, не только превосходящие, но хотя бы сопоставимые с западными». Тем более что, как отмечают авторы, если «вплоть до конца 1960-х гг. научно-техническое отставание СССР от Запада сокращалось, то в 1970-е гг. постепенно начало увеличиваться».
Критикуя интеллектуальный багаж политических лидеров СССР, не следует забывать, что во многом он формировался под влиянием отечественной экономической науки
И в монографии значительное внимание уделяется проблемам научно-технического отставания СССР. В интервью нашему журналу Ореховский так определил проблемы советской инновационной системы: «Можно сказать, что во времена Советского Союза в мире существовали два механизма инноваций: советский — централизованный плановый и рыночный — децентрализованный-спонтанный. Шумпетер полагал, что такая децентрализация — главное отличие капитализма от социализма. Хотя в период догоняющего развития советский механизм инноваций был достаточно эффективен. Но у советского механизма было два подводных камня. Во-первых, этот инновационный механизм совершенно не справлялся с производством товаров народного потребления. Потому что плановые органы не знали, чего хочет население, и не хотели знать. А во-вторых, если в условиях так называемой общественной собственности средства, необходимые для инноваций, передаются потенциальным новаторам (НИИ, КБ, предприятиям) через политические решения административных органов, то при капитализме аллокация ресурсов и рабочей силы децентрализована. Банковский кредит, фондовая биржа и венчурные фонды заменяют собой правительство и парламент, что делает принятие решений об инновациях и соответствующее привлечение ресурсов намного более быстрым. Хотя замечу: несмотря на то что капиталистический, децентрализованный механизм более эффективен, Шумпетер полагал, что осуществление инноваций и при социализме вполне возможно. Кроме того, у нас фактически не было системы патентования инноваций и вознаграждения тех, кто их создает».
Тем не менее и среди советских экономистов были те, кто предлагал решения стоящих перед экономикой проблем. По мнению Ореховского, таким человеком был Юрий Еременко (в то время директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) — в том, что касается структуралистского подхода к экономике и тех реформ, которые были возможны. На взгляд Ореховского, достаточно большая часть правоты была за Лисичкиным, который еще в 1960-е продвигал идеи, схожие с теми, которые победили в Китае.
Но, как отмечают авторы, «задним числом понятно: для того чтобы описывать социализм, нужно было создать другой язык, сконструировать другие категории, на которых бы основывалась и статистика, и “социалистическая” экономическая политика, включая планирование и денежно-кредитное регулирование. По-видимому, такая задача была неразрешима».
Проблемы реформирования
Конечно, авторы не ограничиваются описанием проблем, которые стояли перед советской экономической наукой. Значительное внимание уделено косыгинской реформе, проведенной в конце 1960-х, и разнообразным предложениям по совершенствованию, как тогда говорили, хозяйственных механизмов советской экономики и анализу причин их относительных успехов и исторической неудачи.
В связи с этим авторы монографии задаются вопросом, почему в конце 1960-х советское руководство не пошло по пути постепенной либерализации цен, которую авторы считают важнейшим шагом при переходе к рыночной экономике. «Сейчас, — отмечают они, — это мероприятие представляется логичным и едва ли не самоочевидным В Китае в конце 1970-х гг. во время реформ Дэн Сяопина оно было реализовано, причем в намного худших условиях, чем те, в которых находилась экономика СССР в конце 1960-х гг.». И замечают, что, по мнению либеральных теоретиков, «коммунисты были идеологически зашорены, воспроизводили одни и те же речевые практики и шаблоны, заимствованные у Ленина—Сталина, советское руководство ничего не понимало в экономике, постоянно делало грубейшие ошибки и разрушало собственную страну».
Однако, по мнению авторов, проблема на самом деле была в том, что «в СССР того времени существовало достаточно большое количество организаций, интересы которых входили в прямое противоречие с либерализацией цен (а к концу 1970-х гг., вместе с подъемом теневой экономики, сложились и влиятельные социальные группы, имевшие прямую материальную заинтересованность в сохранении фиксированных, государственных цен. Эти группы, среди прочего, имели определенные ресурсы и возможности влияния, которые проявились в ходе реформ второй половины 1980-х гг.)». Роли и влиянию таких организаций, которые авторы называют советскими корпорациями, посвящена отдельная глава книги. Однако довлеющая тогда «марксистская догма, что социализм — бесклассовое общество, лишенное антагонизмов, практически полностью закрывала возможности обсуждения корпоративных конфликтов». А следовательно, становился невозможным социологический анализ общества и его противоречий, который, к слову, лежал в основе марксистского анализа.
Но главным, по мнению авторов, повторяющих в данном случае главную идею книги, являлись представления о механизме функционирование социалистической экономики и том, каким он должен быть, сложившиеся у советских экономистов разных идейных направлений. «Как ни удивительно, но идеи “крайне далеких от жизни” экономистов оказывали, на наш взгляд, решающее влияние на политику коммунистов.
Именно экономисты формировали авторитетный дискурс, предлагая ту или иную интерпретацию концепта “социализм” коммунистам, а не наоборот. Соответственно, критикуя интеллектуальный багаж политических лидеров СССР, не следует забывать, что во многом он формировался под влиянием отечественной экономической науки».
Хотя думается, что, при всей важности изложенных авторами соображений, важнейшую роль в формировании экономической политики руководством КПСС и СССР последнего периода его существования играли страхи, что освобождение цен и соответствующее их повышение, как это и случилось в 1992 году, приведет к массовому недовольству населения, которое проявилось после повышения цен в 1962‒1963 годах и вылилось в события, подобные бунту в Новочеркасске, и не только. И эти страхи разрушали любые экономические теории. Но, может, именно поэтому брежневский период нашей истории кажется многим нашим согражданам «золотым веком» стабильности.
***
А возвращаясь к главной теме рецензируемой монографии, отметим, что и ее авторы не стали формулировать своего представления о желаемой теории советской плановой экономики. Кто-то скажет, что в этом уже нет необходимости: умерла, так умерла. Но каждый регулярно повторяющийся кризис капитализма порождает надежды решить эту проблему на основе плановой экономики. Так что разработка ее теории остается актуальной задачей.
Когнитивные структуры и политэкономия социализма в СССР: Коллективная монография / под ред. П. А. Ореховского. СПб.: Алетейя, 2022. 368 с. Тираж: 500 экз.
Текст подверстки:
Наверх
Ошибки
и трудности на пути экономических
исследований многочисленны, но их можно
сгруппировать в отдельные, наиболее
характерные.
1.
Предпочтение к фактам, которые подтверждают
мнение исследователя. Например, кое-кто
считает, что политическая экономия —
теория марксизма. Имея такое суждение,
исследователь отбросит упоминание об
Антуане де Монкретьене, который в 1615 г.
впервые употребил термин политическая
экономия, что у него он означал “управление
государственным имуществом города”.
Предвзятые суждения мешают объективному
отбору материала.
2.
Различие в терминологии. Оно усложняет
чтение экономической литературы, часто
делает бесплодными дискуссии.
3.
Множественность систем толкования.
Каждый экономист принадлежит к
определенному времени, среде, классу,
поэтому даваемые экономистом оценки
идеологически предвзяты.
4.
Неправильное допущение — “то, что верно
для одного индивидуума, обязательно
верно и для коллектива, общества в
целом”. Например, если на трибуне один
из зрителей встает, он будет лучше
обозревать футбольное поле. А если
встают все?
5.
Допущение “после этого, следовательно
по причине этого”. Например, вряд ли
можно говорить, что причиной высоких
доходов является высокий уровень
образования. Здесь может быть и то, что
доходы являются причиной образования,
то есть высокие доходы создают больше
возможностей для образования.
6.
Идеологические догмы. Например, иногда
экономисты предполагают, что равное
распределение и есть справедливое
распределение, создают и соответствующую
систему распределения жизненных благ.
Но задача заключается в том, что само
понимание справедливости многолико.
Распределение — функция не справедливости,
а эффективности производства.
7.
Выход экономического исследования за
пределы предмета экономической теории.
Экономисту следует придерживаться
границ, в которых экономическая теория
самостоятельна по отношению к другим
наукам.
Таблица
4
Самостоятельный характер экономической теории
|
Название |
Вопросы, |
Вопросы, |
|
Социология |
Какова |
Каковы |
|
История |
Каковы |
Каковы |
|
География |
Как |
Какие |
|
Регионоведение |
Каковы |
Каковы |
|
Управление |
Как |
Как |
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Forbes публикует главы из книги «Экономика решает», которая выходит в Издательстве Института Гайдара
Почему экономисты столь влиятельны, хотя их теории часто кажутся оторванными от реальности? Правда ли, что, хотя они и неплохо разбираются в математике, в остальном от них мало толку? Ответить на эти вопросы пытается профессор Института перспективных исследований в Принстоне Дэни Родрик в своей новой книге «Экономика решает». Защищая своих коллег от напрасных нападок, Родрик в то же время пытается честно показать пределы возможностей экономических моделей.
Выбор моделей
В июле 1944 года в курортном городке Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир собрались делегаты от 44 стран, чтобы создать послевоенный международный экономический порядок. Они разъедутся через три недели, разработав глобальную систему, которая просуществует более трех десятков лет.
Эта система — плод трудов двух экономистов: титана экономической профессии из Англии Джона Мейнарда Кейнса и чиновника из Министерства финансов США Гарри Декстера Уайта. Кейнс и Уайт расходились во мнениях по многим вопросам, особенно по тем, в которых затрагивались государственные интересы, но их объединяло общее мировоззрение, сформированное опытом периода между мировыми войнами. Они стремились предотвратить в будущем такие резкие колебания, какими стали последние годы действия золотого стандарта и Великая депрессия. Они оба считали, что для достижения этой цели необходимы фиксированные, но допускающие коррекцию валютные курсы; либерализация международной торговли, но не потоков капитала; расширение сфер применения государственной кредитно-денежной и налоговой политики; более плотное сотрудничество двух новых международных агентств — Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития (который получил известность как Всемирный банк).
Систему Кейнса и Уайта ждал необычайный успех.
Она привела развитые рыночные экономики к невиданному ранее экономическому росту и стабильности; также улучшились показатели развития стран, недавно получивших независимость.
Причиной крушения этой системы в 1970-х годах стало то самое усиление движения спекулятивного капитала, от чего предостерегал Кейнс. Но она остается образцовым примером конструирования глобальных институтов. Каждое успешное преобразование в мировой экономике сопровождалось громкими заявлениями реформаторов о «новом Бреттон-Вудсе».
В 1952 году экономист из Колумбийского университета по имени Уильям Викри разработал новую систему ценообразования для нью-йоркского метрополитена. Он рекомендовал повысить стоимость проезда в пиковые часы на загруженных линиях и снизить цены на проезд в другое время на прочих линиях. Система ценообразования в зависимости от плотности транспортного потока стала результатом применения экономических идей спроса и предложения к сфере общественного транспорта. Дифференцированные тарифы поощряют пассажиров с гибким расписанием дня избегать поездок в пиковые часы. Они обеспечивают более равномерное по времени распределение пассажиропотока, снижая нагрузку на транспортную систему и одновременно увеличивая общее количество перевезенных пассажиров. Позднее Викри создал похожую систему для автомобильных дорог и автотранспорта. Но многие считали его идеи безумными и неосуществимыми на практике.
Первой страной, испытавшей в деле ценообразование в зависимости от плотности транспортного потока, стал Сингапур. В 1975 году сингапурские водители начали платить пошлину за въезд в деловой центр города. В 1998 году эту систему сменил электронный сбор платежей, что дало возможность устанавливать размер пошлины на основании средней скорости транспортного потока. По всеобщему признанию, эта система обеспечила сокращение пробок, повышение пользования общественным транспортом, снижение выбросов углекислого газа и существенную прибавку к доходным статьям сингапурских властей. Видя такие успехи, разные варианты этой системы применили и в других крупных городах — Лондоне, Милане и Стокгольме.
В 1997 году профессор экономики Бостонского университета Сантьяго Леви, служивший в своем родном Мехико заместителем министра финансов, решил кардинально изменить подход правительства к борьбе с бедностью. Существующие программы предполагали помощь бедным преимущественно в форме субсидирования расходов на питание. Леви утверждал, что такие программы дороги и не достигают намеченной цели. Из ключевых постулатов экономической науки следует, что в вопросе помощи бедным прямые денежные субсидии эффективнее субсидирования цен на определенные потребительские товары. Леви также полагал, что прямые субсидии станут рычагом, который позволит в конечном счете улучшить здоровье и повысить уровень образования населения. Матери будут получать помощь наличными деньгами; со своей стороны, они постараются обеспечить детям возможность учиться в школе и получать медицинскую помощь. Говоря языком экономистов, данная программа создает для матерей стимулы инвестировать в детей.
Программа Progresa (впоследствии переименованная в Opportunidades, а затем в Prospera) стала первой крупной программой обусловленных денежных трансфертов (ОДТ), примененной в развивающейся стране. Поскольку программу предполагалось вводить поэтапно, Леви разработал хитроумную процедуру реализации, которая позволяла достоверно оценить результативность программы. Весь проект опирался на базовые правила экономической науки, но в корне изменил представления разработчиков социальной политики о программах по борьбе с бедностью. Когда появились положительные результаты, программа стала образцом для других стран. Похожие программы появились в более чем дюжине государств Латинской Америки, включая Бразилию и Чили. Пилотная программа ОДТ осуществлялась даже в Нью-Йорке под руководством мэра Майкла Блумберга.
Три группы экономических идей сработали в трех разных сферах — мировая экономика, городской транспорт и борьба с бедностью.
В каждом случае экономисты перестраивали часть нашего мира, приложив несложные экономические концепции к общественно значимым проблемам. Эти примеры лучше всего отражают суть экономической науки, но есть и много других: теория игр использовалась для определения правил аукционов при распределении частот в телекоммуникационной отрасли; модели рыночного дизайна помогли медикам организовать прикрепление местных жителей к медицинским учреждениям; модели отраслевых рынков организации легли в основу антимонопольной политики; а недавние открытия макроэкономической теории привели к тому, что центральные банки многих стран начали широко применять политику таргетирования инфляции. Когда экономисты все делают правильно, мир становится лучше.
Но экономисты часто ошибаются, как показывает множество примеров в этой книге. Я написал ее, чтобы объяснить, почему экономисты иногда оказываются правы, а иногда — нет. В центре книги — «модели», абстрактные, обычно выраженные математическим языком концепции, с помощью которых экономисты постигают мир. Модели — это и сила экономики, и ее ахиллесова пята; именно они делают экономику наукой — не такой, как квантовая физика или молекулярная биология, но тем не менее наукой.
Экономика использует не одну универсальную модель, а набор разных моделей. Развиваясь, эта научная дисциплина расширяет свою библиотеку моделей и добивается все большего соответствия моделей и реальности. Разнообразие моделей в экономике необходимо в условиях изменчивого социального мира. В разных обстоятельствах нужны разные модели. Экономисты едва ли когда-либо создадут универсальные модели, пригодные в любых обстоятельствах.
Неэкономисты склонны неправильно использовать свои модели — отчасти потому, что берут за образец естественные науки. Они нередко ошибочно рассматривают модель (одну из многих) как универсальную, уместную и применимую в любых обстоятельствах. Экономистам следует побороть этот соблазн. Они должны тщательно отбирать модели в соответствии с изменением обстановки или при переходе от одной ситуации к другой. Они должны научиться более гибко переключаться между моделями.
Эта книга и чествует, и критикует экономистов. Я защищаю ядро экономической науки — роль экономических моделей в создании знания, но критикую определенный способ экономических изысканий и использования (в том числе неправильного) экономических моделей. Доводы, которые я привожу, не являются «официальной линией партии». Подозреваю, что многие экономисты не согласятся с моим видением экономической науки, особенно с моими взглядами на то, какого именно типа наукой является экономика.
Общаясь со многими неэкономистами и представителями других наук об обществе, я часто поражался их представлениям об экономике. Многие основания для недовольства общеизвестны: экономическая наука все чрезмерно упрощает и рассматривает вне контекста; претендует на универсальность, игнорируя роль культуры, истории и прочих обстоятельств; превозносит рынок; опирается на множество скрытых ценностных суждений и к тому же не умеет объяснять и предсказывать происходящее в экономике. Каждое из этих критических замечаний во многом происходит из непонимания того, что экономическая наука является собранием разнородных моделей, у которых нет определенного идеологического уклона и которые не приводят к одному и тому же выводу. Конечно, в той степени, в которой сами экономисты забывают об этой разнородности экономических моделей, часть вины лежит и на них.
И еще одно уточнение, прежде чем начать. Термин «экономическая наука» (economics) стал использоваться в двух разных смыслах. Одно определение делает акцент на содержательном аспекте исследований; в такой интерпретации экономическая наука — это одна из наук об обществе, цель которой — понять, как устроена экономика. Второе определение делает акцент на методах: экономическая наука — это один из способов изучения общества с применением определенных инструментов. В такой интерпретации дисциплина ассоциируется с аппаратом математического моделирования и статистическим анализом, а не с определенными гипотезами или теориями относительно экономики. Отсюда следует, что экономические методы можно применить помимо экономики ко многим другим сферам — начиная от принятия решений в семье и заканчивая вопросами о политических институтах.
Я использую термин «экономическая наука» во втором смысле. Все, что я скажу о преимуществах моделей и об их неправильном использовании, в равной степени применимо к исследованиям в политологии, социологии или праве, основанным на близких подходах. Публика обычно связывает эти методы только с работами наподобие тех, о которых рассказывается в «Фрикономике». Данный подход, основанный на тщательном эмпирическом анализе и логике «стимул-реакция», который популяризировал экономист Стив Левитт, использовался для исследования самых разных социальных явлений, начиная от стратегий борцов сумо и заканчивая мошенничеством со стороны учителей государственных школ. Некоторые критики считают, что такого рода работы опошляют экономическую науку. Они отказываются от рассмотрения серьезных вопросов: в каком случае рынки работают успешно, а в каком — нет; что обеспечивает экономический рост; как достичь компромисса в стремлении к полной занятости и стабильности цен, и других — в пользу изучения обыденных, повседневных сюжетов.
В этой книге я основное внимание уделяю как раз таким серьезным вопросам и тому, как экономические модели помогают их решать. Мы не должны искать в экономической науке универсальных объяснений или рекомендаций на любой случай, независимо от обстоятельств. Разнообразие социальной жизни слишком велико, чтобы втиснуть его в одну универсальную схему. Но каждая экономическая модель подобна карте одного участка местности. Вместе взятые, экономические модели — это лучший способ исследования бесконечных холмов и долин, составляющих наш социальный опыт.
Математический соблазн
В 1973 году экономист шведского происхождения Аксель Лейонхувуд опубликовал небольшую статью под названием «Жизнь эконов». Это было очаровательное псевдоэтнографическое описание всех подробностей типичных практик, статусных отношений и табу среди экономистов. Как разъяснял Лейонхувуд, «племя эконов» определяется приверженностью его членов к тому, что он назвал «модли» — отсылка к упрощенным математическим моделям, которые являются основным рабочим инструментом экономиста. Модли не имеют никакого очевидного практического применения, но чем более искусно и с более сложными ритуалами выделан модль, тем выше статус его владельца. Пристрастие эконов к модлям, пишет Лейонхувуд, объясняет их презрение к членам других племен, таких как «социоги» и «политоги»,ведь эти племена не делают модли.
Слова Лейонхувуда остаются актуальны и сорок лет спустя. Обучение экономике в значительной степени сводится к изучению сменяющих друг друга моделей. Пожалуй, самый важный фактор, определяющий шансы на успех в этой профессии, — это способность создавать новые модели или применять уже существующие на новом эмпирическом материале, чтобы объяснить какой-либо аспект социальной реальности. Релевантность и применимость той или иной модели — вот вокруг чего идут самые ожесточенные споры среди экономистов. Хотите тяжко ранить экономиста — скажите ему: «У вас нет модели».
Модели — основание для гордости. Начните общаться с экономистами, и в скором времени вам на глаза попадется кружка или футболка с надписью «Экономисты делают это с моделями».
Вы также поймете, что большинству из них больше нравится забавляться с математическими построениями, чем тратить время на попытки уловить суть явлений реального мира.
С точки зрения критиков, именно приверженность экономистов моделям является причиной почти всех недостатков нашей профессии: сведение сложной социальной жизни к нескольким упрощенным взаимосвязям, готовность полагаться на очевидно не соответствующие действительности предпосылки, одержимость выверенностью математических построений в ущерб реалистичности, склонность одним махом переходить от упрощенной абстракции к рекомендациям по государственной политике. Они находят непостижимой легкость, с которой экономисты перескакивают от страницы уравнений к выводам в защиту, скажем, свободы торговли или определенной налоговой политики.
Другие обвиняют экономистов в том, что они лишь усложняют очевидное. Экономические модели облекают здравый смысл в математические формулы. И среди самых непримиримых критиков такого рода те экономисты, которые решили отклониться от ортодоксальной экономической науки. Считается, что выдающийся экономист Кеннет Боулдинг сказал: «Математика придает экономической науке строгости; к несчастью, она также делает ее безжизненной». Как заметил Ха-Джун Чанг, экономист из Кембриджского университета, «95% экономической теории — это всего лишь здравый смысл, которому придали сложный вид с помощью специальной терминологии и математики».
В действительности же создаваемые экономистами простые модели совершенно необходимы для понимания того, как устроено общество. Их делают ценными именно простота, формализация и отказ учитывать многие обстоятельства реального мира. Эти качества — необходимая особенность, а не ошибка. Полезной делает модель ее способность ухватить некий аспект реальности. Абсолютно необходимой (при правильном применении) модель становится тогда, когда может ухватить наиболее релевантный в данном контексте аспект реальности.
Различные контексты — разные рынки, социальные условия, страны, эпохи и так далее — требуют разных моделей. На этом месте экономисты обычно и спотыкаются. Они часто отказываются от самого ценного, что предлагает их профессия, — многообразия моделей, ради поиска одной-единственной универсальной модели. Если выбирать модели благоразумно, они становятся источником знания. Если использовать их догматически, результатом будет чрезмерное самомнение и неэффективная государственная политика.
Когда интуиция подводит
Одна из многочисленных шуток экономистов о своей профессии звучит примерно так: «Экономист — это тот, кто видит, как что-то работает на практике, и спрашивает, работает ли это в теории». Выглядит абсурдно, но лишь пока мы не поймем, с какой легкостью можно впасть в заблуждение, полагаясь на интуицию, и как порой жизнь преподносит противоречащие интуиции результаты. Экономические модели помогают натренировать интуицию на то, чтобы учитывать вероятность таких неожиданных исходов. Сюрпризы могут принимать самые разнообразные формы.
Первая категория — это «взаимодействия общего равновесия». Этот термин, который не следует путать с «частным равновесием», или анализом в рамках одного рынка, является замысловатым способом сказать, что мы отслеживаем эффекты обратной связи между различными рынками. Скажем, происходящее на рынках труда воздействует на рынки товаров, которые в свою очередь влияют на рынки капитала, и так далее. Отслеживание всей цепочки взаимодействий часто вносит серьезные оговорки, а иногда полностью опровергает выводы, полученные на основе простых моделей спроса и предложения, ограниченных одним рынком в один момент времени.
Возьмем иммиграцию, тему большого политического значения для США и ряда других развитых экономик. Как рост иммиграции, допустим во Флориде, скажется на рынке труда штата? Первое соображение, что приходит в голову, основано на модели спроса и предложения: рост предложения рабочей силы должен вызвать снижение ее цены, то есть заработной платы. Такой результат иммиграции был бы вполне вероятен в отсутствие эффектов второго и третьего уровня.
Но что если местные рабочие в ответ на усиление конкуренции покинут штат и станут искать работу в других частях страны? Что если приток наемных рабочих приведет к росту инвестиций в физические активы штата, так как привлечет фирмы, строящие новые предприятия и открывающие новые бизнесы? Что если рост числа низкоквалифицированных работников затормозит внедрение новых технологий? Что если появление рабочих-мигрантов стимулирует спрос на производимые именно ими товары? Каждая из этих возможностей может нивелировать первоначальный эффект иммиграции. Нечто подобное произошло в 1980 году в Майами после значительного притока кубинских иммигрантов (их доля составляла 7% трудовых ресурсов Майами). Как выяснил экономист из Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Кард, наплыв мигрантов почти не повлиял на уровень заработной платы и безработицы в Майами, даже среди наименее квалифицированных рабочих, чье положение больше всего было затронуто появлением мигрантов. И хотя о причинах этого еще спорят, похоже, тут сработало некое сочетание эффектов общего равновесия.
Вот другой пример того, почему важно мыслить в терминах общего равновесия. Предположим, что вы высококвалифицированный специалист (инженер, бухгалтер или опытный механик), занятый в швейной промышленности США. Пойдет ли вам на пользу или во вред расширение торговли со странами с низкими уровнями доходов, такими как Вьетнам или Бангладеш? Если вы будете думать только о событиях в швейной отрасли, то есть в терминах частного равновесия, то придете к заключению, что ваше положение ухудшится. Эти страны наверняка начнут жестко конкурировать со швейными предприятиями США.
Но давайте рассмотрим сторону экспорта. По мере расширения новых рынков (за счет средств, вырученных от торговли с США) вырастет экспорт на них продукции других отраслей американской экономики, и в растущих экспортно ориентированных отраслях появятся новые возможности для занятости. Поскольку этим ориентированным на экспорт секторам понадобятся высококвалифицированные работники, они будут нанимать много инженеров, бухгалтеров и опытных механиков. И когда взаимодействия множества рынков прокатятся по всей экономике, ваш заработок может вырасти независимо от того, смените ли вы место работы или нет, из-за роста спроса на вашу профессию.
К неожиданным результатам также может привести принцип «второго наилучшего решения». «Общая теория второго наилучшего» — один из самых полезных инструментов в арсенале прикладной экономики и один из самых неочевидных для неподготовленного ума. Ее впервые разработал Джеймс Мид в контексте внешнеторговой политики, а затем обобщили Ричард Липси и Келвин Ланкастер. Ее ключевые постулаты гласят, что либерализация рынков или появление ранее не существовавших рынков не всегда приносит пользу в случае, если на связанных с ними рынках продолжают действовать ограничения.
Вначале эта теория применялась к торговым соглашениям между группами стран, таких как Европейский общий рынок. Согласно таким договоренностям страны-участницы либерализуют свои торговые связи, снижая или снимая барьеры для взаимной торговли. Простой вывод из «Принципа сравнительных преимуществ» говорит, что все участники получат выгоду от торговли. Но этого может и не случиться. Преференциальные торговые договоренности ведут к тому, что Франция и Германия теперь больше торгуют между собой, и это хорошо. Это явление называется «эффект создания торговых связей». Но по той же причине Германия и Франция теперь импортируют меньше более дешевых товаров из Азии или Соединенных Штатов, что плохо. На языке экономистов это называется «эффект нарушения торговых связей».
Чтобы понять, как нарушение торговых связей снижает экономическое благосостояние, представьте, что США поставляют в Германию говядину по цене $100. Предположим, что Германия вводит пошлину в 20%, что повышает потребительскую цену на говядину на немецком рынке до $120. Тем временем Франция может поставлять то же количество говядины по цене всего лишь $119. До заключения приоритетных договоренностей между Францией и Германией французские поставщики облагались по тому же тарифу, что и американские производители, и не выдерживали конкуренции с ними. Теперь посмотрим, что произойдет, если Германия отменит пошлины на импорт из Франции, но сохранит пошлины на импорт из США. Ввозимая в Германию из Франции говядина внезапно становится дешевле американской ($119 против $120), и импорт из США резко снижается. Немецкие потребители выигрывают 1 доллар, но немецкий бюджет теряет $20 прибыли от таможенных платежей, которые ранее поступали от импорта говядины из США (и могли бы вернуться к потребителям или использоваться для снижения других налогов в Германии). В целом Германия оказывается в проигрыше.
Логика «второго наилучшего» действует в огромном множестве случаев. Один из самых известных — синдром «голландской болезни», получивший название по событиям, последовавшим за обнаружением в 1950-х годах в Нидерландах залежей природного газа. Многие наблюдатели отмечали, что в 1960-х годах конкурентоспособность голландской промышленности снизилась вслед за укреплением гульдена в ответ на приток доходов от добычи газа, что привело к потере доли рынка голландскими производителями. «Общая теория второго наилучшего» в явном виде перечисляет обстоятельства, при которых ажиотаж в связи с появлением нового ресурса может стать плохой новостью (в экономическом плане). Он закономерно ухудшает положение ряда отраслей, таких как обрабатывающая промышленность, вследствие роста курса национальной валюты.
Само по себе это не проблема: структурные изменения являются неотъемлемой частью экономического прогресса. Но все меняется, если продукция вытесняемых отраслей исходно находилась в дефиците — как из-за наложенных государством ограничений, так и потому, что эти отрасли служили источником технологических новшеств для других отраслей экономики. Экономические потери из-за сжатия важных видов деятельности могут даже перевесить прямую выгоду от всплеска активности в связи с появлением нового ресурса. И это не просто теоретическая проблема. Правительства богатых ресурсами стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с этой проблемой ежедневно, потому что давление высоких зарплат в прибыльной добывающей отрасли подрывает конкурентоспособность обрабатывающей промышленности.
Взаимодействия «второго наилучшего» не всегда опровергают выводы из стандартных моделей; иногда они подкрепляют доводы в пользу либерализации рынков. В примере с «голландской болезнью» негативное воздействие на обрабатывающую промышленность станет благом в случае, если приходят в упадок «грязные» отрасли, которые наносят ущерб окружающей среде и не возмещают его. Но часто результат полностью переворачивает выводы, к которым приводят привычные соображения, и оказывается, что мера, которая вроде бы вела в правильном направлении, на самом деле отдаляет нас от цели. Минус на минус дает плюс.
Поскольку конкуренция на рынках никогда не бывает совершенной, как в учебнике, проблемы «второго наилучшего решения» постоянно возникают в реальном мире. Как сказал экономист из Принстонского университета Авинаш Диксит, «весь мир в лучшем случае лишь второе наилучшее». Это означает, что нужно с осторожностью обращаться с ключевыми экономическими моделями, предполагающими идеальное функционирование рынков. Зачастую их необходимо делать менее строгими, учтя некоторые наиболее важные несовершенства рынка. Выбор подходящей модели — ключ к успеху.
Знаменитый драматург Джордж Бернард Шоу однажды пошутил: «Если бы все экономисты работали встык, они бы не пришли к выводу».
Итак, как случилось, что два опытных, знающих экономиста изучают и анализируют одни и те же данные, и каждый дает свой прогноз для экономики страны? Почему эти эксперты так часто не соглашаются друг с другом? Как мы увидим, простого ответа нет; Есть много причин, по которым экономисты расходятся во мнениях.
Ключевые выводы
- Основная причина несогласия экономистов заключается в том, что большинство экономистов обычно принадлежат к двум конкурирующим экономическим школам: кейнсианской экономике и экономике свободного рынка.
- Кейнсианские экономисты считают, что правительство должно играть определенную роль на рынках, тогда как экономисты свободного рынка считают, что правительство должно держаться подальше и позволить рынку регулировать себя.
- При прогнозировании экономисты по-разному оценивают важность определенных экономических факторов, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), инфляция, безработица и процентные ставки.
- Определенные факторы «Х», такие как стихийные бедствия, войны и пандемии, могут нарушить экономические прогнозы, разрушив экономические теории.
- Интерпретация экономических данных — это одновременно искусство и наука, в результате чего возникает различная точка зрения на многие экономические факторы, влияющие друг на друга.
Две конкурирующие школы мысли
Основное разногласие между экономистами — это вопрос экономической философии. Существуют две основные школы экономической мысли: кейнсианская экономика и экономика свободного рынка или laissez-faire.
Кейнсианские экономисты, названные в честь Джона Мейнарда Кейнса, которые впервые сформулировали эти идеи во всеобъемлющую экономическую теорию в 1930-х годах, считают, что хорошо функционирующая и процветающая экономика может быть создана с помощью комбинации частного сектора и государственной помощи.
Под государственной помощью Кейнс имел в виду активную денежно-кредитную и фискальную политику, направленную на контроль денежной массы и корректировку процентных ставок Федеральной резервной системы в соответствии с меняющимися экономическими условиями.
В отличие от них, экономисты свободного рынка выступают за политику «невмешательства» правительства, отвергая теорию о том, что вмешательство государства в экономику выгодно. Экономисты свободного рынка — а есть много выдающихся сторонников этой теории, в том числе лауреат Нобелевской мемориальной премии Милтон Фридман предпочитают, чтобы рынок решал любые экономические проблемы.
Это означало бы отсутствие государственной помощи, государственных субсидий бизнесу, никаких государственных расходов, явно предназначенных для стимулирования экономики, и никаких других усилий со стороны правительства, направленных на то, что, по мнению экономистов, является способностью свободной экономики регулировать себя.
У обеих экономических философий есть достоинства и недостатки. Но эти сильно пропагандируемые и противоречивые убеждения являются основной причиной разногласий среди экономистов. Более того, каждая философия окрашивает взгляд этих враждующих экономистов как на макроэкономику, так и на микроэкономику. Как следствие, на каждое их заявление и экономический прогноз в значительной мере влияют их философские предубеждения.
Другие факторы, влияющие на мнение экономистов
Помимо элементарных философских различий, разногласия между экономистами возникают из-за множества других факторов.
Давайте оговоримся, что экономика не является точной наукой, и часто могут возникнуть непредвиденные факторы, которые расстроят самого успешного прогнозиста экономических условий. Сюда входят, помимо прочего, стихийные бедствия (землетрясения, цунами, засухи, ураганы и т. Д.), Войны, политические потрясения, эпидемии, пандемии и аналогичные изолированные или широко распространенные катастрофы. В результате в каждое экономическое уравнение необходимо включать x-фактор, чтобы учесть неизвестное и непредсказуемое.
Типы данных
При прогнозировании будущего экономики — краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного — экономисты могут изучить некоторые или все следующие данные, а также дополнительные данные. У большинства экономистов есть личное мнение о том, какие числа наиболее полезны для прогнозирования будущего.
- Валовой внутренний продукт (ВВП)
- Уровень инфляции или дефляции
- Числа занятости
- Число безработных
- Индексы рынка
- Жилье начинается
- Продажа существующих домов
- Процентные ставки казначейства
- Процентная ставка ФРС
- Денежная масса
- Цена доллара США по отношению к иностранным валютам
- Динамика заимствований и кредитования, процентные ставки по кредитам
- Уровни долга в различных категориях
- Норма личных сбережений
- Показатели банкротства бизнеса и физических лиц
- Национальный долг
- Дефицит федерального бюджета
- Цены на сырьевые товары, фьючерсный и спотовый рынок
- Личный доход
- Отрасли промышленности
- Неуплаты и просрочки по ипотеке
- Спрос и предложение на различные потребительские товары и услуги
- Капитальные вложения предприятий и отраслей
- Потребительские расходы
- Потребительский долг
- Потребительское доверие
- Бизнес циклы
- Денежно-кредитная и фискальная политика
Почему несогласие?
Предположим теперь, что три экономиста рассматривают некоторые или все вышеперечисленные данные и делают три разных прогноза для экономики США.
- Экономист А может сказать, что в следующие два финансовых квартала экономика будет расти.
- Экономист Б может сказать, что в следующие два финансовых квартала экономика сократится.
- Экономист C может сказать, что в следующие два квартала экономика останется на прежнем уровне.
Анализ и интерпретация экономических данных — это одновременно искусство и наука. В простейшем научном аспекте экономика в целом предсказуема. Например, если на товар есть высокий спрос, а товара мало, его цена вырастет. По мере роста цены на товар спрос на него будет снижаться. При определенной высокой цене спрос на товар практически прекратится. Численность занятости также является предсказуемым показателем. Если занятость в стране приближается к 100%, то экономика в целом будет процветать, и работодателям придется платить более высокую заработную плату для привлечения персонала.
Напротив, когда безработица широко распространена, а рабочих мест мало, заработная плата и пособия снижаются из-за избыточного предложения соискателей работы, что оказывает негативное влияние на экономику.
Вышеупомянутые факторы относятся к числу предсказуемых элементов экономики, и экономисты обычно соглашаются с ними. Однако при интерпретации других данных экономическая картина не столь ясна, и среди экспертов все чаще возникают разногласия в этой области.
Краткий обзор
Большая часть данных, на которые обращаются экономисты, относятся к прошлому, а не к текущему, поскольку для сбора и сортировки данных требуется время. Это приводит к тому, что экономисты не всегда имеют четкое представление о текущих экономических условиях.
Некоторые экономисты могут переоценивать важность опережающих экономических индикаторов, игнорируя при этом значимость инфляции или риск инфляции в динамично развивающейся экономике.
Некоторые экономисты могут неверно истолковать данные, а другие могут придавать слишком большое или недостаточное значение определенным факторам. Тем не менее, у других экономистов есть любимая формула для прогнозирования экономического будущего, которая может исключать определенные элементы данных, которые, если их рассмотреть, могли бы спроектировать иную картину будущих условий.
Поскольку они не проанализировали комплексную совокупность экономических данных, их суждения могут расходиться с оценками экономистов, которые приняли во внимание все важные данные. Наконец, некоторые экономисты включают элемент неожиданности в свои прогнозы, в то время как другие либо полностью его не учитывают, либо не придают ему достаточного веса в своих уравнениях. Поэтому разногласия возникают всегда.
Суть
Хотя экономика имеет дело с числовыми данными и хорошо зарекомендовавшими себя формулами, которые работают для решения различных проблем и дают представление об экономической деятельности, это не полностью эмпирическая наука. Как уже упоминалось, в сложном мире экономики встречается слишком много x-факторов, что удивляет экспертов и опровергает их прогнозы.
Экономисты могут работать на самых разных должностях. Они могут работать на правительство, в бизнесе или в банковской, брокерской или финансовой отраслях. Они могут занимать должности на Уолл-стрит или в академических кругах или работать журналистами. У каждого из этих работодателей могут быть цели или повестка дня, которые окрашивают мнения их экономистов, а различные философские взгляды всех экономистов служат поводом для честных разногласий.